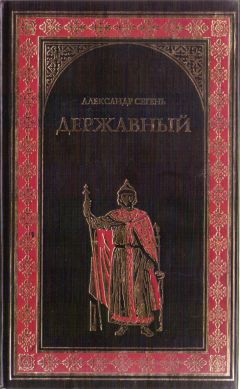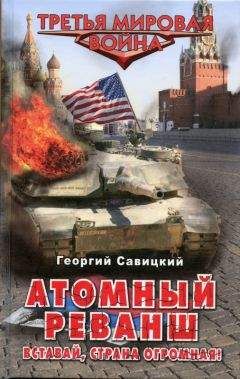Певец, взяв гусли, не заставил себя долго упрашивать и завёл песню былинную про спор Садка с купцами-новгородцами о том, водятся ли в Ильмень-озере златопёрые рыбы. Ладья, уже выскочив на просторы Ильменя, бойко бежала по волнам воспетого в былине озера, справа и слева берега всё дальше уходили, ветер крепчал, солнце сверкало ослепительно, звуки гусельных струн и голос Микулки звонко и ладно растекались по округе. Песня была знакомая, но певец так необычно обыгрывал её, что хотелось слушать и слушать.
Некоторые из тех, кто внимал домыслам Феофила о Садке Сытиниче, потихоньку переместились к краю ладьи и теперь внимательно смотрели вниз, разглядывая неглубокое дно Ильмень-озера. Феофил мысленно усмехнулся — вот простаки! поди, надеются, что и им повезёт, как былинному счастливчику. Но ему и самому до смерти захотелось присоединиться к ним и смотреть на освещённое ярким летним солнышком дно. А как да попадётся там что-нибудь!
Гусляр пел, дойдя до того места былины, когда все отправились на ловлю чудесных рыб:
И свили-то они нов шидяной[92] невод,
И направили ушкуи[93] в Ильмень-море,
И бросали они тоньку[94] на самый дно,
Добывали они рыбку златой перынь…
Внезапно истошный крик одного из стоящих у края ладьи оборвал шёлковую, гибкую нить бывальщины:
— А-а-а!!! Воно! Золото! Поворачивай вспять! Анкорьте[95] ушкуй!
— Да где? Що? Аль ошалел, Васька?
— Никакой не ошалел! Сам видал своими очами!
— И я, кажись, що-то такое узрил…
Все переполошились, встал со своего места и владыка. В мыслях у него вспыхивали какие-то неясные ожидания. А что, если и впрямь достанется что-то со дна Ильменя?.. И чудом сим спасётся древняя вольность новгородская и от Москвы, и от латинства!..
Кормчий уже разворачивал ладью, парус хлопотал, складываясь; подойдя вместе с Фомой Андреевичем к краю посудины, архиепископ взволнованно смотрел на воды озера, хорошо просвечиваемые солнцем насквозь, до самого дна. Да и глубины тут не было никакой.
Вспятившись, ладья вернулась примерно к тому месту, где причудился златой блеск. Волны, стукаясь о борт, раскачивали кораблик. Все замерли, чуть дыша и напряжённо вглядываясь в заманчивые воды былинного озера. И вдруг архиепископ явственно увидел, как что-то поблескивает на дне золотым сиянием.
— Вижу! — рявкнул под самым ухом у Феофила молодой сын купеческий, Федька Курицын, который вчера привёз в Новгород казнённых в Русе знаменитых сынов боярских, в том числе и Марфина витязя, Дмитрия Борецкого.
— И я вижу, — выдохнул архиепископ в страшном волнении. Он и впрямь видел, но непонятно что — какие-то золотые узоры, расплывчатые очертания чего-то огромного, лежащего на дне и сверкающего в лучах полдневного летнего солнца.
— Где, Сокол, где? — чуть не падая за борт, хваталась за Федькин рукав его спутница, дочка угрина-снадобщика из Неревского конца. Видать, Федька умыкнул её без родительского благословения, поскольку, когда отчалили в Новгороде, отец Курицын объявился на пристани и стал выкрикивать Федьке всевозможные ругательства, требуя, чтобы сын немедленно воротился.
— Да вон же, Ласточка! — указывал Федька своей юной угринке.
«Ишь ты, — в недовольстве подумал архиепископ, — Сокол, Ласточка!..» Тем временем уже многие увидели златое сияние на дне Ильменя, восклицали, тянули руки, указывали перстами. Трезубый якорь плюхнулся в воду и мигом вгрызся в дно, ладью дёрнуло и повело в сторону, но не уносило, а шатало на одном месте. Во все глаза Феофил всматривался в лежащее на дне диво, но золотые очертания так и оставались неопределёнными, к тому же волны не давали как следует сосредоточить взор. Нечто золотое и великое блазнилось, дразнило, посверкивало на глубине двух-трёх саженей, качалось, мутилось, таяло… И вдруг Феофил отчётливо осознал, что там ничего нет, что глаза его видят обыкновенное дно — никаких узоров, очертаний, никакого золотого блеска!.. Что за морока! Он оглянулся по сторонам и увидел ошалевшие, растерянные лица.
— А куды подевалось-то? — первым воскликнул всё тот же Федька Курицын.
— И впрямь, братцы, исчезло! — плаксиво выпалил Васька, который первый увидел златой блеск.
— Да що это такое!
— Братцы ушкуйники! Бис нас морочит!
— Владыко Феофил! Що сие значит?
Феофил молчал. Холодный пот прошиб его. Неужто всё увиденное на дне озера было дьявольским наваждением? И как, чем объяснить его? Какими словами истолковывать? Феофилу сделалось страшно. Он снова оглядел лица перепуганных новгородцев. Наконец заговорил:
— Снимайте анкорь! Уходим отселе, да поживее! Сдаётся мни — соблазны тут гуляют по дну Ильменя. Помолимтеся, братие, ко святому Миколаю-угоднику, Мирликийскому чудотворцу. «Возбранный Чудотворце и изрядный угодниче Христов, миру всему источаяй многоценное милости миро…» — начал он громко читать, осеняя себя крестными знамениями. Васька, тот самый, что первым соблазнился мнимым златым сиянием, как видно, чувствовал за собой вину и с криком «Эх!» сиганул за борт, устремился к дну. Тем временем кормчий вновь разворачивал судно, снимая его с якоря. На якоре же вытащил и Ваську. Вода дождём бежала с его одежд, глаза были выпучены.
— Пусто там, братцы, — бормотал он жалобно. — Голое дно, да и всё! Що ж за морока такая?!
— Тихо ты! Молчи! Молись! — огрызнулись на него.
Так, с молитвами к Николаю Чудотворцу, отправились дальше к полуденному берегу озера, который уже виднелся во всех подробностях впереди ладьи. Под крутым обрывом в водных зарослях суетились местные обитатели — нырки и гагары, крохали и дикие гуси, большие и малые бекасы. Средь этого птичьего мира царил переполох — москали устроили настоящую облаву, меткие стрелы били птицу навзлёт и на плаву, то там, то сям начинали трепетать и хлопать по воде крылья в предсмертных муках.
— Ишь ты, — сказал посадник Фома Андреевич, — каково лупят! А ить сегодня пятница, постный день, птицу нельзя вкушати. Ох, москали, москали!..
Маленькая лодка, в которой сидели двое гребцов, вышла навстречу ладье. Один из сидящих в ней, встав в полный рост, кричал:
— Эй! Кто таковы? Новгородцы? С челобитьем аль как?
— С челобитьем! — отвечали ему с носа ладьи. — Владыку везём да нового посадника. Марфу скинули, новый посадник у нас ныне — Фома Андреич.
— Ну, добро, коли так! — И лодка с разведчиками быстро пошла назад к берегу.
— Ох-хо-хо! — вдруг тягостно вздохнул Феофил. Радостное чувство, с которым он покидал сегодня Новгород, куда-то исчезло. И, разделяя настроение остальных новгородцев, он ощутил себя в унизительной роли челобитчика, от лица которого Новгород сдавался на милость Московского князя. Видя и в посаднике то же внезапно навалившееся уныние, архиепископ положил ему на плечо руку и сказал:
— Не тужи, Фома свет-Андреич! Государь Иван, бачут, милостив, не унизит нас. А всё ж краще ему служить, а не латынянам.
— Да кабы никому не служить — краще того было бы, — вздохнул посадник.
— Так-то так, — согласился архиепископ, но добавил: — А коли одному Богу служить будешь, Бог мало-помалу от всех прочих господ избавит тебя.
Глава шестнадцатая
ЧЕЛОБИТИЕ
Государь грустил. На другой день после суда над новгородскими изменниками он перебрался в большой воинский свой стан, раскинувшийся у Коростыни по берегу Ильмень-озера. И тогда же в Коростынь прибыл гонец из Москвы Василий Ноздреватый, он доложил великому князю о том, что на Москве всё спокойно. Вдовствующая княгиня Марья Ярославна почти не задыхается, сестрица Анна Васильевна постоянно при ней и постоянно затевает всевозможные увеселения, молодой княжич Иван Иванович выздоровел и ждёт приказа от отца явиться в стан, братец Андрей Васильевич Меньшой благополучно спит с вечера до полудня, но потом исправно обедает, играет в шахи и столь же исправно ужинает. Рассказ Ноздреватого, блистающий остроумием, изрядно всех повеселил, но, оставшись наедине с государем, Ноздреватый сообщил Ивану Васильевичу с глазу на глаз, что вдова Александра Гусева, Елена Михайловна, урождённая Кошкина, на днях была пострижена в кремлёвском Девичьем монастыре.
Вот и отнял Господь у государя его Алёнушку! И как бы ни понимал Иван Васильевич, что рано или поздно пришлось бы расстаться с милой вдовиночкой, особливо когда появится у него новая супруга — морейская ли царевна или какая иная, — как ни готов он был к разлуке с утешительной Еленой Михайловной, а всё думалось: есть ещё времечко, хоть полгодика ещё, да наши! И вот теперь, когда будто ножом отрезало от Ивановой жизни сей милый сердцу кусочек, непереносимая грусть навалилась на великого князя.