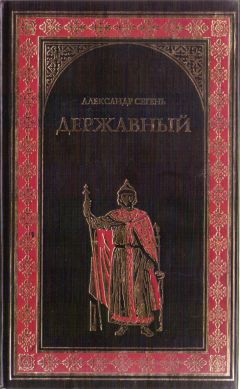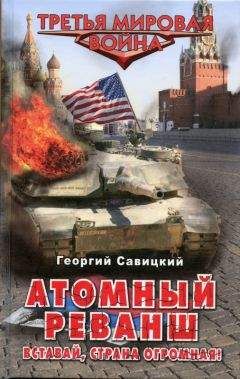Конечно же, не сама Алёна в иночество бросилась. Это матушка с сестрицей подстроили, насильно — уговорами или угрозами — заставили полную соков женщину, не готовую к монашескому подвигу, отречься от житейских радостей. И что тут поделать? Явиться и обжечь, облить гневом, как смолой, обеих доброжелательниц? Глупо. Они о благе государства пекутся, и всякий займёт их сторону. А главное, Иван Васильевич тоже горит любовью к государству своему, понимает необходимость расчётливого брака!..
Весь белый свет — удачная война с Новгородом, блестящие победы, близкое и полное сокрушение измены новгородской, ясное солнечное лето, красоты окрестностей Ильмень-озера и даже лакомые коростынские вишни — всё вмиг сделалось Ивану немило. Беря с собой лишь молчаливого брата Бориса, безутешного и потому тоже отныне молчаливого Ивана Ощеру, окольничего Заболоцкого, боярина Русалку да трёх-четырёх дружинников, великий князь скитался целый день по окрестным лесам и болотам, и покуда заединщики его постреливали глухарей, тетеревов, лисиц и зайцев, Иван Васильевич ни разу не взялся за лук, а лишь созерцательно участвовал в охоте. Однажды, когда ему вдруг нос к носу встретилась рысь, он посмотрел на неё с усмешкой и тихо пожелал:
— Ступала бы и ты, пар душка, в монастырь!
Узнав о прибытии с Ильменя челобитчиков, он не пожелал встречаться с ними ни в тот же день по их приезде, ни на следующий, ни на третий, ни на четвёртый. Он знал, что никто его за это не осудит, и даже, напротив того, хвалить будут: «Мудрый государь у нас, верно делает, что томит новгородцев, не спешит обниматься с изменщиками!» А челобитчики — архиепископ Феофил и новый посадник Фома Андреевич — покуда встречались и вели беседы с шелонскими победителями, с митрополитом Филиппом, Чудовским и Андрониковским игуменами, с князем Верейским и даже с касимовцами. Чёрная хандра, которую довелось испытать Ивану после смерти жены четыре года назад и которая понемногу развеялась с появлением Алёны, вновь безраздельно овладела им; причём тосковал он не об Алёне, а именно, вновь и с утроенной силой — о Машеньке, Марье Борисовне, Машуне. Видел её то со свечой в руке во храме, то простоволосую в одной сорочице, босую, приближающуюся к его постели, то кормящую грудью малыша — она ведь не захотела отдавать Ванюшу кормилицам, сама истекала молоком и могла бы ещё двоих сосунков питать, то… нет-нет! последний, страшный облик Маши, синий, опухший, он изо всех сил старался отогнать от своих воспоминаний, звал другие, светлые и радостные образы жены, и они приходили по его зову. Вот в лодочке под лёгким парусом, таким же летним солнечным днём, как стоят сейчас здесь. Гудельщик красиво играет на своих гудах, Машенька сидит в белом летнике, на голове — лазоревая кика с жемчужным очельем, глаза смотрят на него с такой нежностью, что всё внутри стонет — ну почему сейчас не ночь!.. Где же это было? Бывало-то много раз — и лодочки, и солнечные дни, и нежные взоры. Но именно это, особо острое воспоминание?.. Ах да! В Калязине, в то самое лето, когда обнаружилось, что Маша зачала. Точно, точно! Они ведь тогда ещё отправились обедать в какую-то женскую обитель, и там Иван встретил монашенку с на удивление знакомым лицом. Потом он вспомнил её — черемисянка. Даже имя вспомнил — Очалше. А она ему со смехом: «Не Очалше я, светлый княже, давно уж не Очалше. Ольга я в крещении и иночестве своём». И даже на могилу Бернара сводила. И Ивану тогда припомнились слова Русалки о том, что се — любовь. Он стал допытываться у Машуни, могла бы и она, так же, как эта черемисянка, себя до конца дней своих к его могиле привязать… Да только в могилу Маша раньше его вот ушла!..
И много других светлых воспоминаний посещало Ивана Васильевича, покуда он блуждал по приильменским лесам со своими заединщиками, и грусть росла в нём всё больше и больше, особенно когда припоминалось, в чём и как виноват бывал перед Марьюшкой.
Утром последнего дня перед Успенским постом[96] Андрей Бова разыскал великого князя и его охотничков на берегу речки Поижи в десяти вёрстах от Коростыни. Увидев его, государь сразу догадался, что есть важные новости.
— Здорово, Андрюша! — приветствовал он его. — Какие вести привёз нам сюда? Добрые аль злые?
— Добрые! Добрые, государь! — воскликнул Бова. — Воистину — с нами Бог! Гонец прибыл от Василия Фёдоровича.
— От Образца? Ну — и?.. — нетерпеливо вопросил Иван и вдруг поймал себя на том, что его взволновало поступление вестей. Неужто отхлынет хандра?!
— Победа, государь! Полная победа! — воскликнул Бова ещё громче. — На Двине, при впадении в неё Шиленги, Образец наголову разгромил войско Шуйского-Гребёнки и воеводы Василия Никифоровича.
— Славно! — обрадовался великий князь вдвойне — и радостному известию, и тому, что способен радоваться. — Не постарались, значит, двинцы ради Новгорода и Литвы? Зело славно! Много ж насобирала Гребёнка вшей в двинских власах?
— А?
— Я говорю: большая ли рать была у Шуйского-Гребёнки? Сколько удалось ему наскрести таких, которые готовы были за измену биться?
— Двенадцать тысяч, — ответил Бова. — А у Образца с его вятичами втрое меньше того было — четыре тысячи.
— И побил Образец Гребёнку?
— Побил! Гонец сказывает, целый день секлись в битве, до того бились, что, потеряв всё оружие, руками схватывались и душили друг друга с ненавистью. Двинский стяжной, падоша, потерял стяг, его подхватил другой, убило и этого, тогда стяг взял третий, а когда и его убило, наши захватили знамя двинское, и тут двинцы дрогнули, побежали и стали сдаваться в полон валом. Сам Гребёнка, раненный в голову, еле спасся от плена, бежал с малой горсткой людей своих. Так что, как видишь, государь, повсюду мы бьём крамольников новгородских!
— А как там в самом Новгороде? — спросил Иван Васильевич, беря с вертела кусок вчерашней копчёной медвежатины. Вчера Ощера завалил лесного митрополита, и потом весь вечер вспоминали покойного Юшку Драницу, некогда знаменитого медвежьей охотой.
— В Новгороде, — докладывал Андрей Иванович, — Марфа Борецкая, пользуясь отсутствием нового посадника, подняла мятеж, сама себя заново провозгласила посадницей, стала готовиться к обороне города от нас, на стены пушки выкатывать, но недолго её терпели — воевода Упадыш поднял Словенский конец противу Марфы, принялся пушки железами заколачивать, его схватили и предали жестокой казни, но сие не имело воздействия на верных нам новгородцев, они пуще прежнего взялись бить изменников-подлитовников, и вскоре Марфе ничего не оставалось делать, как запрятаться в своём богатом доме и не высовывать носа. Так что, можно рядить, конец войне. Псковичи уже стоят возле Юрьева монастыря и видят стены Кремля Новгородского. Князь Оболенский-Стрига оставил берега Меты и движется к Новгороду с востока. Остаётся нам только принять челобитье архиепископа и нового посадника. А там — дорога в Новгород открыта, въедем победителями и навеки покончим с изменой!
— Да? — задумчиво жуя вкусную медвежатину, отозвался Иван Васильевич. — А надо ли нам вообще вступать в Новгород?
— Я не понимаю, — удивился Андрей Иванович.
— А тут и понимать нечего, — ответил государь, — я ведь пришёл сюда не для того, чтобы покорять Новгород, а ради истребления измены. Теперь же войне конец, и ежели я соблаговолю явиться в Новгород, сие будет означать мою к нему милость. А они моей милости пока не заслуживают. Посещать великие города государь Московский должен либо гостем наижеланнейшим и долгожданным, либо суровым завоевателем! А сегодня я для Новгорода — ни первое, ни второе.
Глаза Бовы дивно заблистали, и Иван Васильевич понял, что сказал нечто правильное и полезное.
К полудню великий князь явился в Коростынский стан и тотчас направился к ставке, отведённой для архиепископа Феофила. Тот уже стоял у входа в высокую ставку. На лице у него всё было написано: он гневается на государя за столь долгое отсутствие и оттяжку встречи, но гнева своего не может выказать, поскольку явился сюда как челобитник, да к тому же и сокрушение военной мышцы Новгорода теперь уж стало окончательным после разгрома на Двине и повторного ниспровержения Марфы Борецкой. Иван поспешил сам сбить архиепископа с толку и, подойдя к нему, пал пред ним на колени:
— Благослови, владыко!
Не ожидав сего коленопреклонения, Феофил растерянно и растроганно наложил на Иоанна своё благословение. Государь встал с колен, целуя руку Феофила, и лишь выпрямившись во весь свой немалый рост, отпустил благословившую его десницу.
— С приездом, ваше высокопреосвященство!
— Так ведь давно уж приехали… — лукаво улыбаясь, отвечал Феофил. Справа от него появился посадник Фома Андреевич. Государь сразу догадался, что это именно он. Видно было, что и на него коленопреклонение великого князя произвело некое недоумённое впечатление, и чтобы он не успел хоть мало-мальски возгордиться, Иван строгим тоном произнёс: