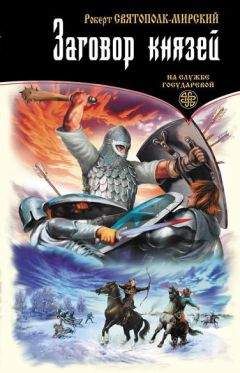А еще через полчаса Никифор Любич вынул изо рта своей верной овчарки скомканный листок бумаги и, смазав соответствующим раствором, прочел короткое сообщение о том, что замок Горваль посетил некий Медведев и, узнав, что князя нет, не оставшись даже пообедать, заторопился в Кобрин.
Никифор Любич глубоко задумался.
Но он думал вовсе не о том, куда и зачем едет Медведев — это стало ему ясно почти мгновенно: он знал о неприятностях московского князя, — бунте братьев и предполагаемом нашествии Ахмата, о котором шляхта в литовском княжестве уже радостно переговаривалась, готовясь к летнему походу в его поддержку. Стало быть, великому князю понадобилась помощь Федора Бельского, и даже нетрудно догадаться какая — от перехода братьев-князей на московскую сторону до покушения на жизнь короля.
Но важно было совсем не это, важно было другое: сообщать ли об этом Высшей Раде братства сейчас, или еще подождать?
Марья уехала, и теперь рядом с Федором нет никого, кто мог бы осветить подробности его планов и действий.
Упоминать Медведева, и таким образом привлекать к нему внимание братства Никифору тоже не хотелось в силу данного когда-то обета.
Единственный человек, с которым он мог бы все обсудить и посоветоваться — Трофим с Черного озера — уехал по приказу Рады проверять, как выполнит свое первое, но какое-то очень уж важное дело некий новый член братства.
Никифор Любич, подумав, принял решение.
Надо посмотреть, как будут развиваться события. На последнем Совете Рады говорили, что следует воздержаться от всех акций, которые могут повредить Московскому княжеству и поддерживать все, которые идут ему на пользу. Медведев наверняка действует на пользу Москве. Значит, пока подождем. А там — увидим.
… Первая битва с ливонцами произошла под Псковом.
Около двух недель неторопливо двигалось московское войско, растянувшись длинно, часто останавливаясь, то на обед (толокно, сушеная рыба, немного ветчины), то на ночь (ужинали чем Бог послал), пока, наконец, не доползло до псковских земель, где стали встречаться недавно разграбленные и сожженные неприятелем села.
За это время Филипп успел занять почетное место в окружении князя Андрея Никитича Оболенского, который оказался крепким, жизнерадостным мужчиной в расцвете лет, любителем выпить и повеселиться, силачей вроде Филиппа очень жаловал, что не преминул доказать на третий же день похода, предложив ему принять участие в состязании сильнейших воинов войска в метании тяжелой палицы, именуемой «булава».
Булава была и впрямь тяжелой, но не для Филиппа.
Три раза бросали, и с каждым разом Филипп не только намного дальше остальных забрасывал тяжелую, обитую железом дубину с шипами, но каждый раз все дальше и дальше, побеждая, таким образом, даже самого себя.
Князь Оболенский пришел в такой неописуемый восторг, что прямо после состязаний при всех торжественно пожаловал этой булавой Филиппа, говоря, что теперь, когда такой силач находится в их войске, подобное состязание лишено всякого смысла.
Филипп на радостях забросил подарок так далеко, что его едва нашли в сгущающихся сумерках.
И вот, наконец, они увидели неприятеля.
Казалось, что ливонцы только их и ждали.
Но это не казалось, а было так на самом деле, потому что ливонские лазутчики донесли о приближении московского войска еще вчера, и восьмитысячная армия под командованием генерала Густава фон Шлимана, состоящая из рыцарей, кнехтов с алебардами и лучников, хорошенько приготовилась к встрече. В раннем утреннем тумане начинающейся оттепели, ливонцы подошли к московскому войску настолько близко, что когда их заметили выставленные далеко вперед сторожевые посты, было уже поздно.
Тем не менее, воевода Оболенский проявил храбрость и спокойствие.
Он, в первую очередь, отправил гонца назад, в тыл, чтобы поторопить отстающие отряды, а затем так, будто это он готовит нападение, а не на него нападают, велел отборной коннице полка левой руки немедленно начинать обходной маневр слева и по тройному сигналу рога стремительно атаковать противника с левого фланга, а коннице полка правой руки — справа по тому же сигналу.
Главные полки он двинул вперед, а сам занял место на близлежащем холме, в окружении гонцов, готовых мчаться в любой конец с его приказами, и своих приближенных дворян, в числе которых находился и Филипп Бартенев.
Воевода подмигнул Филиппу, весело потер руки, поглядывая на стройно приближающиеся колонны вражеских копейщиков, и велел трубить в рог один раз.
Московская пехота двинулась, и тут же посыпался рой стрел, от которых воевода и его приближенные укрылись щитами.
Особенно выделялся огромный и тяжелый голубоватый щит великого магистра в руках Филиппа.
Вдруг из рядов наступающих вылетел всадник-гонец.
— Воевода, — закричал он. — Сотник Петров убит! Кто будет командовать нашей сотней?
Оболенский повернулся к Филиппу.
— Ты! — сказал он. — Вперед, и помни — это передовая сотня и она не должна отступить ни шагу, пока с боков не ударит конница!
Филипп еще не успел осознать, что это для него означает, и его пока интересовало только одно:
— А как я узнаю эту сотню? — спросил он.
— Олешка Бирюков тебе покажет! Он десятник в той сотне — кивнул Оболенский на всадника и крикнул ему — Вот ваш новый сотник — Филипп Бартенев! У него щит великого магистра Ливонии, захваченный воеводой Образцом и пожалованный Филиппу за особые заслуги! Делайте, как он, и Господь дарует вам победу! Вперед!
Филипп взмахнул левой рукой с надетым на нее щитом, подхватил в правую булаву и на своем мощном коне, купленном еще в Боровске, ринулся вслед за гонцом.
Спустя несколько минут он оказался в самой гуще схватки.
Впервые в жизни Филиппу пришлось вступить в настоящий бой в толпе разъяренных окровавленных людей, среди которых трудно было отличить своих от врагов, и возможно, не произойди это столь неожиданно и внезапно, он бы растерялся, но сейчас было не до этого — воевода приказал найти свою сотню где-то там впереди и выстоять с ней до появления конницы, а Филиппу ни за что не хотелось подвести воеводу, поэтому он упорно двигался прямо перед собой, расчищая дорогу такими мощными ударами булавы, что противники валились как подкошенные то справа, то слева.
И так он ожесточенно пробивал себе дорогу вперед, до тех пор, пока не услышал рядом громкий хриплый крик верхового гонца, пробиравшегося следом буквально по трупам:
— Вот наш новый сотник! Ура Филиппу Бартеневу!
— Уррра! — Отозвалось вокруг, и Филипп понял, что добрался до своей сотни.
Теперь надо было выполнить приказ и не отступить.
Но не отступить — означало стоять на месте.
А стоять на месте Филипп не умел и не мог.
— Вперед! — крикнул он таким мощным голосом, что все кони вокруг присели. — За мной!
И, размахивая убийственной булавой, врезался в гущу неприятеля.
Что было дальше он точно не помнил, потому что впал в какое-то странное и страшное состояние, о котором потом думал со смешанным чувством стыда и затаенного страха перед чем-то темным и неведомым, что, как оказалось, постоянно сидит где-то в самом потаенном уголке его души, притаившись невидимо, да только и ждет такой вот минуты, чтобы внезапно броситься изнутри кровавым зверем, затуманить разум и притупить все чувства кроме одного — желания убивать, убивать и убивать…
Под ним пал конь, но он по-прежнему шел все вперед и вперед и наносил левой рукой удар щитом налево, и от такого удара падали сразу несколько человек, а правой рукой наносил тяжеленной булавой удар направо — и снова падали люди, и от грохота покореженного металла щитов, нагрудников и шлемов совсем не слышно было слабых и беспомощных криков умирающих в бою людей.
Филипп очнулся только тогда, когда увидел, что впереди уже никого нет.
Опустив щит и булаву, он огляделся вокруг.
Далеко слева и справа видны были бегущие в разные стороны ливонцы, бросающие по дороге оружие, московская конница добивала тех, кто еще пытался сопротивляться, а все поле было усеяно телами павших воинов.
Филипп присмотрелся, увидел, что большинство тел принадлежат ливонцам, и понял, что московское войско одержало победу, а значит, и он победил в первом настоящем бою в своей жизни.
… Пир победителей был шумен, весел, сладок и длился до самой ночи.
Филиппа наперебой поздравляли — он стал героем всего войска, и каждый хотел с ним «хотя бы по глотку», но он отказывался, так как чувствовал, что и так выпил больше чем за всю предыдущую жизнь, — в голове шумело, и ноги не слушались.
Он побрел в свой шатер и стал укладываться.
— Можно, Филипп Алексеевич, — заглянул десятник Олешка Бирюков.