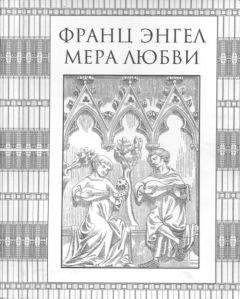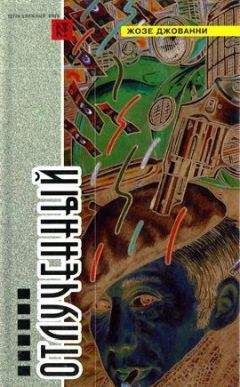Ему пришлось смириться, как и жертве де Бельвара, запертой на втором этаже донжона, несчастному епископу без епархии, которого Арнуль искренне оплакивал как попавшего в самое, какое только можно вообразить, бедственное положение. Раньше мессир Жан положительно влиял на де Бельвара, столь положительно и благотворно было это влияние, что Арнуль лишь удивлялся силе его авторитета у своего сеньора, теперь же где это благословенное время, растаяло, испарилось, кануло в Лету, теперь все плохо, гляди, чтобы не сделалось еще хуже, какая еще дурь в голову графу взбредет, — Арнулю оставалось только вздыхать и сетовать на злую долю.
На днях Джованни примерял новую одежду, куда дороже и тканями и отделкой, и ладно сидящую на нем, не то что старая, так что вовсе не зазорно было показаться в ней перед кем угодно, не только перед стокепортскими рыцарями, и Джованни решился прервать свое затворничество, чтобы выгулять обновки.
Граф распорядился приготовить обед внизу, в общей зале, пора было уважить своих людей совместной трапезой.
Арнуль смотрел на графа и посаженного рядом с ним на хозяйское место епископа во все глаза.
— Благословите трапезу, мессир, — предложил он, помявшись, и глубоко поклонился Джованни.
— Нет, читайте молитву сами, как капеллан этого замка, — отказался тот.
Арнуль сокрушенно покачал головой. Так и есть: считает себя недостойным. И это он-то, злосчастная жертва произвола! Пока сидели за столом, Арнуль наблюдал Джованни. Сперва мессир Жан казался капеллану задумчивым, даже печальным, в чем помогало Арнулю неровное освещение и собственное воображение, но вдруг случилось неожиданное, немыслимое, чего, по разумению Арнуля, произойти никак не могло: де Бельвар сказал что-то Джованни, и тот засмеялся. Смеется?! Арнуль не донес кусок крольчатины до рта. Мессир Жан смеется?! Где стыдливость невинной жертвы, где неизбывная печаль сломленной и поруганной добродетели? Арнуль испытал горькое, жестокое разочарование. Он почитал Джованни святым, а тот оказался всего лишь… обычным человеком.
Жизнь в замке скоро вернулась к своему обычному порядку: де Бельвар по-прежнему управлял Стокепортом, как и всем своим палатинатом, жесткой рукой, только Арнуль лишился места ближайшего его советника, ибо теперь де Бельвар обсуждал все дела с Джованни. Они возобновили занятия, и граф делал значительные успехи в учебе, благодаря дисциплинированности своего милого учителя, не позволявшего Де Бельвару отвлекаться на уроках. Для прогулок и охоты погода стояла неблагоприятная, приходилось целыми днями сидеть дома, зато находилось предостаточно времени, чтобы миловаться.
Спустя пару недель Джованни напросился от нечего делать поглядеть на ежедневную тренировку де Бельвара с тяжелым оружием, и граф постарался продемонстрировать ему все свое умение. Он сначала для разминки покрутил полутораметровый боевой меч — с такой видимой легкостью, словно это была обычная палка, потом приказал завязать себе глаза, и Джованни перепугался, что любимый поранится.
— Всякое в бою может случиться, — объяснил де Бельвар. — Треснут по голове плашмя, в глазах потемнеет, или шлем сползет, да мало ли чего.
Де Бельвар приказал атаковать его сначала одному, потом паре, а потом и нескольким рыцарям сразу, и продолжал без устали отбиваться от них с завязанными глазами.
— Главное — научиться не мотать головой, а то от скрежета шлема по кольчуге и неприятеля-то не услышишь, — объяснил он Джованни, когда сел рядом с ним передохнуть немного и глотнуть воды. — В кольчужном капюшоне и в шлеме вообще плохо слышишь, почти лишаешься возможности ориентироваться в пространстве, а во время битвы и без этого грохот такой, что не сразу привыкнешь, приходится полагаться на внутреннее чутье: откуда на тебя нападают, — сказал де Бельвар и показал Джованни на деле то, что довольно угрожающе звучало даже на словах, так как лишил себя не только зрения, но и слуха, приказав подать подшлемник, верхнюю кольчуг и шлем.
Тренировочный бой прошел более чем удачно для графа.
— Все мне удается, когда вы рядом, — поцеловал он Джованни, когда тот заботливо отирал его залитое потом лицо.
— Обещайте мне, Гийом, что несмотря на все свое умение, не станете рисковать своей жизнью ни при каких обстоятельствах. Прошу вас. Помните всегда, как вы мне дороги, — взмолился Джованни.
— Я не стану рисковать своей жизнью зря, любовь моя, мне есть что терять, — улыбнулся граф. — Как же я могу быть теперь безрассудным?
На Рождество де Бельвар и Джованни решили уехать в Честер. В Стокепорте их больше ничего не удерживало. Единственная забота, какая оставалась или могла возникнуть, — силфорцы — разрешилась. В графский замок явилась делегация горожан. Вид у них был самый что ни на есть смиренный, ни одного бунтовщика или каноника, ежели даже таковые и остались в живых, не осмелилось приехать, во главе делегации силфорцы поставили Тибо Полосатого. Горожан беспокоили церковные кары, которые могли обрушиться на их глубоко раскаивающиеся головы.
- Не будет интердикта. Ни на кого в особенности, ни на город в целом, ответил Джованни. — Облачение, миссал и церковную утварь что я привез с собой, я оставляю в дар Силфорской церкви.
- Вы невероятно, неизмеримо великодушны, — промолвил с поклоном Тибо. — Нам вас не отблагодарить.
Он преподнес Джованни подарки: ткани, меха, пару застежек для плаща, все слишком, по представлениям Джованни, дорогое для него неприемлемое. Джованни еще не привык одеваться по моде и хотел отказаться, но де Бельвар подсказал ему, что такой жест будет расценен как неприятие условий договора, всегда требующего материального подтверждения, и подарки пришлось принять. Джованни не стал расспрашивать об участи заговорщиков, и так все было понятно; насколько он мог помнить, никто из них не смог уйти тогда из епископского дома на своих ногах, и те, кто еще не покинули сей бренный мир, остались больными и калеками до самой смерти. Джованни скорбел, что ему пришлось послужить причиной несчастья для кого бы то ни было, пусть даже для людей, едва его не убивших. Имел бы он такую возможность, совсем простил бы их всех, но они уже понесли наказание, и больше не стоило о них думать. От епископского служения в Силфоре у Джованни остался лишь шрам на лбу над левым виском.
Он уехал с де Бельваром из Стокепорта не как епископ Силфорский, скорее как не рукоположенный клирик.
Джованни беспокоило это новое его положение, вернее, можно сказать, старое, ибо Джованни вернулся к прежнему своему состоянию и стал тем, кем был большую часть своей недолгой жизни и кем в глубине души не переставал себя считать — канонистом и теологом. Его тревожили сомнения. Он вспоминал о порицании, высказанном покойным папой Александром III, болонским доктором, которого Джованни уважал за мудрость и дипломатичность, — порицании архиепископу Кентербери, убитому впоследствии в соборе и признанному святым, знаменитому Фоме Бекету, за то, что тот после бегства своего из Англии перестал служить мессу, полагая себя низложенным и прося об отставке. Папа Александр отставку Бекета не принял, судьба Джованни также не была еще решена, но продолжать священническое служение он не мог, не находил возможным. Жизнь, какую он вел, порицалась церковью, и его отставка, как полагал Джованни, была делом предрешенным, лагоразумнее представлялось скорее просить о ней добровольно, чем дожидаться, пока Святой Престол окажется перед необходимостью применить к нему дисциплинарные санкции. Джованни для своей просьбы освобождении от церковного сана решил использовать тот же предлог, как и Бекет в свое время, — несоблюдение канонических предписаний при его посвящении. А пока он находил более честным пусть и самовольно, но отказаться от всех прав и обязанностей священника.
— Я поеду с вами в Честер в качестве кого? — спросил он у де Бельвара.
— Моего любовника, — засмеялся граф.
— Нет, я серьезно.
— Скажем, в качестве моего учителя и наставника. А также советника, канцлера — как хотите называйте, и моего любовника, — де Бельвар продолжал смеяться, но его предложение показалось Джованни приемлемым.
Зря он волновался. В Честере быстро сообразили, откуда ветер дует, Джованни все именовали «мессиром», не иначе, выказывая ему всяческое уважение, как человеку, имеющему безусловное влияние на маркграфа, но не «мессиром епископом». К нему почти сразу стали обращаться с прошениями и искать его посредничества, заступничества. Джованни неплохо справлялся с этой ролью, тем более что она не составляла для него особого труда, ибо он был умен, образован, дипломатичен по природе и всегда находился рядом с графом, который готов был его выслушать. Они никогда не расставались, их видели вместе на всех ассамблеях, советах, выездах, пирах, во время отправления правосудия и во время увеселений, и никому и в голову не приходило оспаривать положение Джованни при честерском дворе: он сделался вторым человеком в палатинате после самого графа.