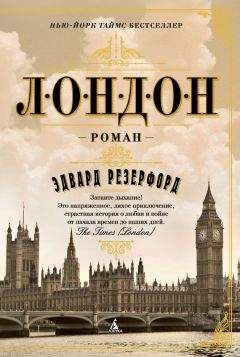И Озрик ни в коем случае не должен был догадаться о тайне, с которой она жила все эти недели, – девушка любила его.
В последующие дни Озрик и Доркс при каждой встрече обменивались привычными улыбками, но говорили редко. Оба держали свои чувства при себе. На том, казалось, дело и кончилось. Но не вполне.
Первой заметила перемену в Озрике жена Альфреда. Обычно его еженедельные трапезы в семье оружейника проходили празднично. Альфред построил новый дом впритык к мастерской – прочное бревенчатое строение с большой главной комнатой и верхним этажом, разделенным надвое: для них с женой и для детей, коих было уже шестеро. Подмастерья спали в служебной постройке на задворках.
Жена Альфреда – особа веселая, сдобная. Дочь мясника, она правила домочадцами с легкостью и сноровкой женщины, любимой мужем и имевшей детей ровно на одного больше, чем рассчитывала. Озрик, каким бы жалким ни было его обыденное существование, к порогу их дома обычно приободрялся и часто приносил детям какую-нибудь самодельную игрушку.
– Ты ему прямо как мать, – говаривал Альфред супруге.
– Тем лучше, – отвечала та. – Бог свидетель, она ему не помешает.
А потому она встревожилась, когда на исходе лета заметила, что Озрик сам не свой. Он витал в облаках, ел мало. «Не влюбился ли этот несчастный?» – спросила она у Альфреда. Тот усомнился. Но когда осенью Озрик пришел однажды бледный как смерть, не проронил ни слова, а есть вообще не смог, она забеспокоилась всерьез. Деликатные расспросы ни к чему не привели.
– Не понимаю, в чем дело, но оно скверно, – сказала она мужу. – Поспрашивай в Тауэре. Попробуй узнать.
Через несколько дней Альфред отчитался:
– Сказывают, что он крепко сдружился с девчонкой. Я ее видел. Очаровашка, просто мышонок! Даже поговорил с ней.
– И что?
– Да пустяки. Они друзья, не больше. Сама так сказала.
Жена на это покачала головой и улыбнулась:
– Я потолкую с ней.
Тем паче ее удивило поведение Озрика, когда уже следующим вечером тот прибыл на ужин.
Парень все еще был бледен и словно хранил какой-то секрет. Она недоумевала, в чем тут дело, если не в девушке.
Но главное – тот никогда еще не съедал так много. Когда хозяйка подала рагу, он четыре раза спросил добавки, эля же выдул три здоровые кружки. Он умял вдвое больше, чем всякий жадный мастеровой.
– Гляньте на Озрика! – разгалделись дети. – Он сейчас лопнет!
– Силенками запасаешься? – осведомился Альфред.
– Да. Сегодня наверну, сколько сумею, – ответил тот, не объясняя, и когда ушел, все прочие остались в неведении.
Он был доволен и ночью, лежа на соломенном ложе, с улыбкой обдумывал свой план.
На следующее утро, когда Ральф совершал заведенный обход, над берегом висел туман. Люди копошились близ хибар, но представали лишь смутными силуэтами; их кашель и голоса звучали в липкой сырости приглушенно и бесплотно. Неясными сделались даже грозные очертания Тауэра, напоминавшего огромный корабль-призрак, выброшенный на сушу.
Ральф хрюкнул. Накануне он навестил дам с южного берега, но те, хотя и давали ему физическую разрядку, все меньше удовлетворяли его, и на рассвете он брел по мосту в дурном расположении духа.
Вдобавок его раздражало еще кое-что.
Куда, черт возьми, подевался его хлыст? Тот загадочно исчез двумя днями раньше. Он отложил его всего на пару минут, и после, какие бы чудовищные угрозы Ральф ни изрыгал, никто из работников так и не смог ему сказать, куда тот запропастился. С годами Ральф настолько свыкся с ощущением кнутовища в руке, что испытывал ныне крайнее неудобство и чуть не терял равновесия на ходу.
– Ну, раздобуду новый, если вскорости не найду, – бурчал он в досаде.
Он не потрудился заглянуть в хижины, но по привычке обошел размытый массив Тауэра, время от времени поглядывая на склоны, как будто стремился убедиться, что во́роны, скрывавшиеся в тумане, по-прежнему охраняли его темные, сырые стены.
И только он свернул за угол, как сразу увидел свой хлыст.
Тот валялся на земле у стены, на вид пребывая в целости и сохранности. Вор небось перепугался и вздумал вернуть его таким способом.
Чуть улыбнувшись, Ральф подошел и нагнулся, чтобы поднять хлыст.
Озрик ждал этого целый час.
Парень понимал: его замысел опасен. Однако всю неделю, прокручивая в голове свой план, он задавался вопросом: что ему терять? Доркс он оказался не люб. Стремиться было не к чему, жизнь представала беспросветной. Что ему сделают сверх того, что успели? Не отрадно ли, пусть хотя бы чуток, прибить надсмотрщика, который столь безжалостно его унизил?
И вот, наблюдая из укрытия, он тщательно вычислил подходящий момент, сделал глубокий вдох, напрягся и тихо процедил:
– Пора.
Вечерние старания Озрика не сгинули втуне. Он так набил желудок, что в самом деле боялся лопнуть. Мягкие, теплые испражнения, хлынувшие из него струей, устремились с северной стороны Тауэра в garderobe, где он воссел, – их было намного больше, чем когда-либо ранее. Терпя и крепясь столь долго, парень разродился продуктом замечательной концентрации. Податливый, обильный, но компактный, тот полетел в благословенной тишине к далекой цели.
Мигом позже Озрик, теперь уже мочившийся в лоток, с восторгом узрел, что его посылка приземлилась аккурат на голову надсмотрщика.
Снизу донесся вопль ужаса, затем, когда Ральф вскинул руку, – изумления, и, наконец, едва он увидел и учуял, что на ней такое, – неимоверного отвращения. К моменту, когда он поднял взор на выходное отверстие, там уже никого не было.
Взревев от ярости, нормандец помчался вокруг здания и вверх по лестнице. Он ворвался в garderobe, оттуда ринулся через зал в камеру, крипту и даже окунулся во тьму хранилища. Но не нашел никого. Рыча от негодования, он вернулся в главный зал и уже собрался искать дальше, когда был захвачен мыслью внезапной и еще более кошмарной.
Вот-вот на работу пожалуют первые каменщики. Они увидят его обляпанным вонючей и неприглядной дрянью. Он станет посмешищем Тауэра, всего Лондона. Поэтому, издав крик отчаяния, Ральф вылетел из здания и вскоре был замечен бегущим к городу сквозь утренний туман.
Озрик ждал. Он сидел на корточках, плотно прижимаясь к стене, футах в десяти выше, в тени огромного камина. Он слышал вопли Ральфа и, улыбаясь, внимал удалявшемуся топоту нормандца.
Затем он спустился.
Через несколько дней Доркс была изумлена: жизнерадостная супруга оружейника пригласила ее пройтись. Они направились к Биллингсгейту; девушка дичилась, но постепенно, сраженная сердечностью и понятливостью этой женщины, немного оттаяла, а потом, хотя сама того не желала, ее и вовсе прорвало.
Однако все это было не столь удивительно, как дальнейшее.
Женщина спокойно и доброжелательно объяснила, что они с мужем дружны с Озриком, поведала, как Альфред пытался выкупить его.
– Может, когда-нибудь и сумеет, – добавила она, а потом сделала предложение: – Мы присмотрим за твоей матушкой. Даже Ральфу не хочется обременяться лишним и бесполезным ртом. И последим, чтобы она не голодала, а если Ральф разрешит, заберем ее к себе.
– Но… – Девушка замялась. – Если у нас с Озриком будут дети…
Женщина докончила за нее:
– И Озрик умрет? – Она пожала плечами. – Насколько получится, приглядим и за ними. Не думаю, что им грозит голод. – Женщина помедлила. – Конечно, тебе могут предложить и что-нибудь получше. Если так – соглашайся. Но это хоть что-то. Мой муж – главный оружейник и имеет здесь некоторый вес.
На обратном пути Доркс молчала, ибо не знала, что думать и говорить. Но в итоге, будучи молодой и измученной, ответила:
– Спасибо. Да.
Через несколько вечеров Озрик ошарашенно взглянул на бледную фигурку, приближавшуюся к нему в слабом мерцании жаровни.
Прошел год, прежде чем мать Доркс приняли в дом оружейника. За это время успели доделать первый этаж Тауэра и заготовить для потолка огромные деревянные балки.
Озрик и Доркс, уединившись в своей жалкой обители, как могли жили безмятежно. Не было ни свадебной церемонии, ни официального освящения, но в этих условиях на такое и не приходилось рассчитывать. Местный люд называл Доркс просто: женщина юного Озрика; его же – ее мужчиной. Добавить к этому было нечего.
За исключением того, что вскоре после ухода матери Доркс спокойно сообщила Озрику, что ждет ребенка.
Шли месяцы, и Альфреду-оружейнику с женой казалось, что они сделали доброе дело, а жизнь в Лондоне при нормандцах была, в конце концов, вполне сносной.
Или была бы, не докучай им лихо, которое начало разрастаться и без принятия мер грозило поглотить их всех.
Однажды утром, поздней осенью 1083 года от Рождества Господа нашего, Леофрик-купец, проживавший в Уэст-Чипе, стоял у своего дома под знаком Быка, на миг захваченный нерешительностью.
Два вида, ему открывшиеся, настолько приковали внимание, что он знай вертел головой, пытаясь вобрать сразу оба.