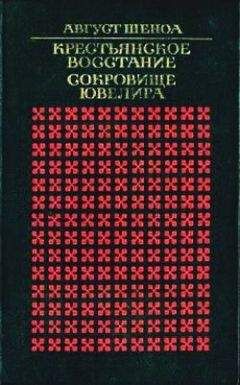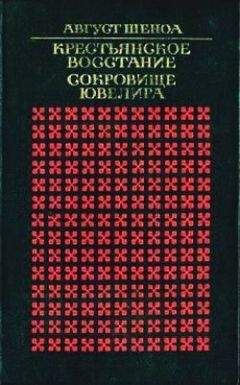– Вельможный господин! Благородный господин бан, узнав, что вы прибыли, просит вас немедленно к себе во дворец.
– Хорошо, господин Ладислав. Я сейчас поеду за вами, – ответил лениво Алапич; потом крикнул строгим голосом: – Молодцы! Подождите здесь, покуда не придет приказ от господина бана, – и, пришпорив коня, понесся к воротам Капитула.
В зале епископского дворца, во главе длинного стола, сидел мрачный и задумчивый епископ Драшкович и перебирал письма. Ему что-то оживленно рассказывали подбан, нотарий Петричевич и великий жупан загребский и вараждинский. Кругом стояли капитаны харамий, командиры банских гусар и усатые главари ускокских отрядов. Когда на пороге зазвенели шпоры маленького Гашпара, все оживились, а епископ поднялся и, шагнув навстречу вошедшему Алапичу, протянул ему обе руки.
– Ave, рыцарь Шиклоша и Керестинца! – приветствовал его епископ. – Благодарю вас, наш славный герой! Я уже слышал, что вы нам несете добрые вести. Садитесь, вы устали.
– Видит бог, устал, – ответил Алапич, кланяясь, снял шлем п отер пот со лба. – И не удивительно, reverendissime, – продолжал он, садясь рядом с баном, – если вчерашний день и не отмечен в календаре, то, ей-ей, он все-таки был красный.
– Рассказывайте! – сказал епископ. – Впрочем, нет, пойдемте ко мне. А вы, господа, ждите здесь моих дальнейших приказаний.
В комнате бана Гашо скинул латы и оружие, сел около печки и, в то время как Драшкович, по своему обыкновению, шагал взад и вперед, начал, положив ногу на ногу, свой рассказ:
– Тут дело нешуточное, reverendissime; во всех краях мужичье кипит, как в котле. И идет на нас. Расскажу вам вкратце. Окич, Самобор, Ястребарское, Керестинец и драганичане поднялись против моей сестры в тот самый момент, когда брдовчане перешли Сутлу. Эта весть была как гром средь ясного неба. Сестра старалась успокоить кметов. Безуспешно. Она умоляла Турна прислать ей из Жумберака ускоков, но тот ответил, что они ему самому нужны и что сами они ненадежны. Собаки кметы подожгли также Керестинец. Их собралось около двух тысяч, и они должны были идти в Ускокские горы и дальше в Краньскую. Тогда я поплевал на руки, собрал туропольпев, свободных крестьян моей сестры, занял у господина Зринского всадников и – в дорогу. Все оказалось легче, чем я предполагал. Во-первых, у этой сволочи было мало ружей, а во-вторых, мне помогло предательство. Ко мне из Краньской явился некий метличанин Никола Дорочич и раскрыл все их планы. У него в крестьянском войске был знакомый командир. Никола. Его-то и купил мой кошелек, а крестьяне на него чуть не богу молились. Никола и убедил их не идти в горы, а пойти равниной через Самобор в Краньскую. Я же распустил слух, что иду на Ястребарское, а сам расположил войска в лесу под Керестинцом. И вот вчера на заре, когда мужики проходили там беспечно толпами, как муравьи, мои всадники, reverendissime, бросились на них, как черти, и ударили по скотам спереди и с тыла. Три часа мы молотили – вся равнина была покрыта трупами. Шестьсот человек полегло, но и нам это обошлось не дешево, потому что кметы злы, как собаки. Потом я пошел в Мокрицы, где встретил Турна, который позавчера разбил бунтовщиков под Кршко. Он спешил нам на помощь, но мы в ней больше не нуждались.
– А Грегорианец? – спросил епископ.
– Сидит в каше, которую сам заварил и сам же в ней ошпарился. Раньше был, как бешеная собака, а теперь виляет хвостом, как сука.
– Злодей! Он обагрил кровью королевство. А ускоки?
– Теперь успокоились. Они уже были готовы присоединиться к крестьянам. Но Турн подоспел вовремя. Бросил им в пасть несколько кошельков с цехинами, захватил вождя восстания – Ножину, названого брата Илии, повесил троих ускоков и приказал расстрелять одного попа; и теперь ускоки ему верны. Но с этой чертовской историей еще не покончено. Надо бояться за Ново-Место, Метлику и Озале. Все пылает до самого Целя. Штирийские и краньские бароны дрожат, как в лихорадке. Крас и Горенское волнуются, зараза проникла также в Каринтию. Горенские, триестские и каринтийские дворяне вербуют войска, а в Краньской и Штирип ополчение уже стоит под оружием.
– Знаю, – сказал сердито епископ, – мне писали штирийцы, а также император и эрцгерцог Карл. Укоряют меня в бездействии. Видит бог, с меня довольно этого банства! Сколько раз я писал, чтоб суд убрал Тахи, эту язву нашего королевства, виновника всего этого кровопролития. И разве мы не посылали Кеглевича и Брзая к королю, прося помощи против крестьян? И все безуспешно. Я умолял генералов Вида Халека и Ауершперга прислать нам пограничников. «Не можем, – отвечают, – без приказа императора». А приказ не приходит, и мне сдается, что немцы были бы довольны, если б крестьяне нас побили. И выходит, что виноват я! Но слушайте дальше! Теперь, когда льется столько невинной крови, когда все королевство пылает, когда восстание разлилось до Вараждина и Крижевцев, в такое-то время я получаю письмо от императора: ввести госпожу Хенинг во владение половиной Суседа и постараться убедить Тахи отдать другую половину за деньги. Неужели для этого нужно было девять лет?
– Это тонкая политика! – усмехнулся Алапич. – Признаться, я немилосердно бью крестьян, и мы должны усмирить их совершенно, потому что они поднялись на дворян, но у меня сердце обливается кровью, когда я вижу, как народ в отчаянии теряет голову. Если б было больше справедливости, чем милости, могло бы обойтись и без этого.
– Да, domine Гашпар, и я не жестокий человек, но это ядовитое растение надо вырвать с корнем, потому что дело идет о жизни всего дворянства, ибо в кметов вселился сатана. Видя, что от немцев нет помощи, я призвал в Загреб ополчение королевства Славонии. Потому-то я вас и пригласил. Вы станете во главе его. В Загребе я собрал пять тысяч отборного войска – харамии, ускоки, банские гусары и канониры. Да и вы привели прекрасный отряд. Поэтому с богом в путь! И завтра же!
– Уже завтра?
– Да, – ответил решительно епископ, – у Стубицы и Златара собралось шесть тысяч крестьян, и ведет их Матия Губец. Весь народ до самого Междумурья ждет его, и если только Илия Грегорич из Штирии соединится с Губцем, нам придется туго! Этому необходимо помешать. Не теряйте времени. Докажем, что мы сами можем совладать с восстанием, что мы здесь хозяева и что мы не нуждаемся в помощи немцев.
– Bene, reverendissirne, пусть будет по-вашему. Завтра я двинусь на Стубицу, но не раньше полудня. Войску надо отдохнуть, да и моим грешным костям нужен покой.
Через час по улицам Загреба загремели трубы и затрещали барабаны. Из дворца епископа поскакали офицеры к своим отрядам, объявить им приказ быть готовыми к завтрашнему дню, так как войско выступит в поход на север.
Стубицкая долина опоясана горными массивами. Они тянутся с обеих сторон: слева – крутые, справа – спускаясь пологими холмами. Начало долины, у стубицких Топлиц, широкое, но потом горы постепенно сближаются, долина суживается, и, наконец, за селом Верхняя Стубица, над которым высится замок Тахи, начинаются горы. Все покрыто снегом – и волнообразные вершины гор, по которым лепятся маленькие домики, и деревья, и крыши крестьянских изб. В этой долине и в этих горах расположилось войско Губца – шесть тысяч человек – в ожидании Илии Грегорича и его отряда.
Зимняя ночь. По небу бегут облака, ветер гуляет в горах и по долине, мир объят непроницаемой тьмой. В темноте, словно искры, светятся огоньки изб; в долине крестьяне зажгли костры и, тесно прижавшись друг к другу и опустив головы на грудь, спят вокруг огня. Иногда мимо костра проедет всадник, проверяя спящие отряды, и быстро исчезает во мраке; время от времени раздается в ночи протяжное «ой» стражи и разносится дальше по долине и по горам. На вершине, что напротив Топлиц, стоит избушка. Здесь передовой пост; перед дверью воткнут "высокий кол с пучком соломы на конце, а в избушке Андрия Пасанац греет руки и глядит в огонь; на земле лежат парни, а у открытых дверей сидит закутанный в тулуп крестьянин с ружьем в руках и смотрит в темную ночь. Под горой направо, на пологом холме, в самом узком месте долины, стоит маленькая церковь, а рядом в снегу торчат деревянные кресты. Это кладбище, и отсюда можно видеть всю долину. Посреди кладбища развевается большое белое знамя с черным крестом, вокруг кладбища насыпан вал, а за ним стоят четыре железные пушки на колесах. Двери открыты, в церкви горит лучина. На полу, на соломе, разостлана безрукавка, на которой спит девушка. Она подложила худые руки под голову и повернула бледное, увядшее лицо к лучине. Это Яна. Около нее сидят двое. На камне – пожилой человек с сединой, но с молодой душой и с горящими глазами; на черной шапке длинное перо и белый серебряный крест, на жилете блестят серебряные застежки, на плечи накинут нарядный тулуп; локтями он упирается о широкую, кованную серебром саблю. Это Губец. Перед ним сидит на земле, обняв руками колени и вперив взгляд в вождя, бледный молодой крестьянин – Могаич.