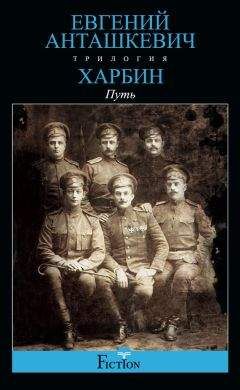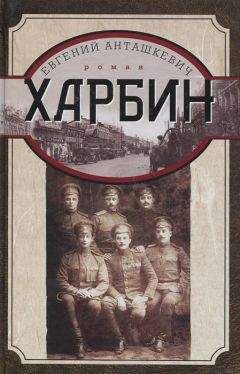Тельнов замолчал, желая передохнуть, раскрыл футляр и попытался уложить в него свои очки с одной дужкой и старой резинкой, но футляр был для очков маловат и не закрывался. Александр Петрович много раз видел и эти очки, и этот футляр, это старье раздражало его, и он советовал уже много раз Кузьме Ильичу купить новые, тот всякий раз соглашался, но…
– Вот так, уже который раз пытаюсь подладить его под мои очки, однако не для них он предназначен, даже дужку на очках отвинтил…
– Ну а дальше что? – Александр Петрович понял, что его советы были лишними, и пожалел о том, что был так настойчив. Его интересовала развязка, хотя тон всего рассказа явно свидетельствовал о том, что она будет трагической.
– А дальше? – Кузьма Ильич поднял спокойные глаза на Александра Петровича. – Дальше нам уже пластуны рассказали – они подплыли близко и всё видели, – дальше револьвер Новожилова дал осечку, он хотел застрелиться, а потом одну гранату бросил в немецкую лодку, попал, а другую подложил под себя. – Он покачал головой. – А если бы взял три, может, всё и обошлось бы. А может, он сначала бросил гранату, а потом его револьвер дал осечку. Этого уже никто не знает. Потом пластуны забросали гранатами вторую немецкую лодку, а Новожилова и его челн разнесло в клочья. И в щепки. Только пластуны с удивлением рассказывали, что на месте взрыва удивительно сильно пахло коньяком. Вот и весь азарт.
Сашик, до этого спавший безмятежно, как будто услышал конец рассказа, пошевелился, застонал и открыл мутные глаза. Александр Петрович пощупал лоб мальчика, тот горел, он попытался его успокоить, но Сашик что-то лопотал, скорее всего бредил. Александр Петрович не заметил, как старик выскочил из детской и через секунду вернулся со стаканом, в котором была тёмная жидкость с микстурой. Он подал стакан Александру Петровичу, тот приподнял голову сына и в разлепленные сухие губы влил ему немного жидкости, мальчик машинально сглотнул, и Александр Петрович медленно влил ему всю микстуру, Сашик выпил её и через несколько минут успокоился и снова заснул. Взрослые тоже успокоились, расселись на стулья и некоторое время молчали.
Вдруг Александру Петровичу пришла в голову мысль о том, что, если Сашик даже во сне будет слышать знакомые ему голоса, может быть, от этого ему будет спокойнее. Он обернулся к Тельнову, Кузьма Ильич сидел тихо и, склонившись к Сашиному изголовью, смотрел на мальчика. Александр Петрович видел, что старик взволнован или своими воспоминаниями, или состоянием мальчика, и он обратился к нему:
– Кузьма Ильич, дотянитесь до какой-нибудь вашей газеты и почитайте что-нибудь, только тихо. Пусть Сашик слышит, что он не один, что мы рядом.
Тельнов сначала удивился, а потом, видимо, понял смысл просьбы, снова вышел из комнаты, вернулся с газетой, развернул её, поискал глазами и тихим, спокойным, но внятным голосом начал читать:
– «Заря», суббота, 5 января 1924 года, № 4, «У святочного прилавка»… – Он оторвался от газеты и вопросительно посмотрел на Александра Петровича.
– Читайте, это всё равно, что там будет написано!
Тельнов согласно кивнул, удивился изобретательности Александра Петровича и тихо прокашлялся:
– «У святочного прилавка.
…Тут уж не до политики, когда идут покупать индейку или по морозу волокут пышную ёлку. Кого тут смутишь речью Муссолини, или хитрыми ухватками Болдвина, или посланием американского президента по вопросу об европейских долгах… Из всего этого не проистекала непосредственная опасность для обывателя, а остальное безразлично…»
Он читал тихо и с таким выражением, что было понятно, где в статье заканчивается один абзац и начинается другой:
«…Первой ночью 1924 года рестораны были наполнены до краев, и, подсчитывая выручку, рестораторы улыбались рассказам о харбинской депрессии.
На таких встречах не швыряют тысячами, и никто ещё от святочных расходов не разорился, а вот израсходовали же харбинцы без всякого напряжения сотни тысяч на святочную мелочь.
Все мы в глубине души считаем Харбин захолустьем.
По количеству жителей это небольшой русский город.
Богатствами своими, однако, он поспорит с любым прежним большим.
Начать считать одних миллионеров – пальцев не хватит.
Подобно глубинам моря, Харбин умеет скрывать свои сокровища.
Подует резкий, пронизывающий ветер политических тревог, город беднеет, беднеет стремительно, за один день. В театрах играют для билетеров, в кинематографах крутят для контрамарочников, в магазинах тишина июльского полдня.
Рассеются тревоги, и столь же поспешно Харбин богатеет: заполняют подписные листы щедрыми даяниями сиротам и бездомным, заполняют рестораны, штурмуют прилавки.
Депрессия в Харбине понятие не экономическое, а психологическое».
Адельберг сидел, слушал Тельнова, думал: «Какая чепуха то, что он читает, зачем напросился. Надо бы прекратить!» – но в один момент посмотрел на Сашика и увидел, что напряжённое даже во сне лицо сына стало разглаживаться, он дышал ровнее, притихли хрипы, бледность кожи заменялась на живые краски, Сашик повернулся со спины на бок и, не просыпаясь, улыбнулся.
Июльское солнце вот-вот должно было показаться над горизонтом; от костра медленно поднимался сизый дым, стелился над небольшой поляной и сливался с утренним туманом. В середине расположившегося на поляне лагеря рядом с длинной, растянутой за соседние деревья низкой палаткой сидели двое.
– Александр Петрович, может быть, вам всё-таки взять с собой рабочего? Тайга, знаете ли, глушь, зверья много всякого. Да и хунхузы!
– Да нет, Леонид Алексеевич, спасибо! Думаю, обойдусь. Давайте-ка ещё раз сверимся по маршруту, куда я должен буду прийти к четвергу и что делать потом.
Начальник партии и Адельберг раскинули карту.
– Вам надо прийти к истоку вот этой речушки, это несколько вёрст. Примерно здесь, – начальник партии ткнул пальцем, – перевалите через водораздел и спускайтесь вниз. Речка по-китайски называется Гунбилахэ. Идите прямо по её течению и постарайтесь дойти вот до этой излучины. Съёмки производились лет девять назад, весьма приблизительно. Но я думаю, что неточностей немного, хотя снималось общим планом, обзорно.
Начальник партии повёл по карте пальцем:
– Вот тут эта самая, как мы её называем, Губйлиха, то есть – Гунбилахэ, делает крутой зигзаг и подходит под самые сопки. Если вы через них перевалите вот здесь, перепад высот саженей до сорока, скальных выходов почти нет, кое-где есть только осыпи, то к четвергу, к исходу дня, мы должны будем встретиться вот тут, – он показал на карту, – в районе станции Эрчжань. А может, прямо на станции. Я думаю, успеете. Припасы у вас имеются, вы человек опытный, так что с голоду не умрёте. Если до конца пятницы нас не дождётесь, принимайте самостоятельное решение. Можете выбираться в наш основной лагерь, но лучше дождитесь. И, Александр Петрович, раз человека не берёте, возьмите-ка ещё боеприпасов. Зверьё, знаете ли, хунхузы, контрабандисты.
Адельберг выслушал, докурил папиросу и бросил её в костёр.
– Благодарю вас, Леонид Алексеевич, патронов возьму, а люди вам нужнее.
Разговор был окончен; он поднял с земли походную сумку, закинул карабин на плечо и двинулся на юго-восток.
Александр Петрович остановился на небольшой поляне и достал часы – прошло два часа, как он покинул лагерь. Он огляделся; кругом была привычная тайга, из-за густого подлеска вперёд было видно не больше чем на десять шагов; иногда путь пролегал через буреломы, и их приходилось далеко обходить. Места были дикие, ему ещё ни разу не попались человеческие следы: затёсы на стволах, или рубленые пни, или огневища; одни только звериные тропы. Поэтому, чтобы никого неожиданно не встретить, он шёл и намеренно громко трещал сухими сучьями, обламывал тонкие ветки, сбивал старые шишки и отбрасывал попадавшиеся под ноги камни, и в такт шагам, машинально повторял китайское название речки «Гун-би-ла-хэ» и думал о том, почему оно так легко превращается в русское или украинское «Губйлиха!» или «Гунйлиха!», вроде бабы! Гунилиха ему больше нравилось, – всё-таки не так страшно!
Ещё час, сверяясь по схеме, он поднимался по пологому склону. Видимо, впереди, в нескольких десятках шагов уже был перевал, потому что между деревьями показался просвет, и, скорее всего, дальше был спуск, поэтому сквозь кроны начало проглядывать небо.
Он вышел на кромку хребта, встал на неё, у него под ногами оказалась крутая каменистая осыпь, под которой внизу, саженях в пятидесяти, лежала сухая марь. С высоты марь выглядела открытой, широкой и почти круглой: она была зажата с боков крутыми склонами сопок и находилась как бы в котловине. Адельберг снял с плеча сумку и вытащил старую схему. Вроде всё совпадало – эта марь и должна быть истоком Гунбилахэ. Он на глаз измерил её длину и ширину и сделал пометки в блокноте.