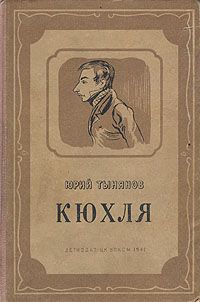Вильгельм посмотрел на унтера и усмехнулся.
– Стоит ли вам беспокоиться по пустякам, – сказал он, – я сам найду дорогу в город.
Он сказал это и тотчас услышал собственный голос: голос был глухой, протяжный.
– Никакого беспокойства, – строго сказал унтер, и Вильгельм увидел, как он знаками подзывает солдата.
Он не чувствовал страха, только скуку, тягость, в теле была тоска да, пожалуй, втайне желание, чтобы все поскорее кончилось. Так часто ему случалось думать о поимке, что все, что происходило, казалось каким-то повторением, и повторение было неудачное, грубое.
Он пошел прочь, прямыми шагами, зная, что так надо.
– Стой! – заорал унтер и схватил его за руку.
– Что вам нужно? – спросил Вильгельм тихо, чувствуя гадливость от прикосновения чужой, жесткой руки. – Уходите прочь.
– Рот кривит! – кричал унтер, вытаскивая тесак из ножен.
– Прочь руки! – сказал в бешенстве Вильгельм, сам того не замечая, по-французски.
– Васька, держи его, – сказал деловито унтер солдату, – это о нем давеча в полку объявляли.
Вильгельм смотрел бессмысленными глазами на веснушчатое лицо, сбоку.
«Как просто и как скоро».
Через полчаса он сидел в глухом, голом каземате; дверь открылась – пришли его заковывать в кандалы.
Путешествия у Кюхли бывали разные.
Он путешествовал в каретах, на кораблях, в гондоле, в тряской мужичьей телеге.
Он путешествовал из Петербурга в Берлин и в Веймар, и в Лион, и в Марсель, и в Париж, и в Ниццу – и обратно в Петербург. Он путешествовал из Петербурга в Усвят, Витебск, Оршу, Минск, Слоним, Венгров, Ливо, Варшаву – и обратно в Петербург. Последнее свое обратное путешествие он совершил не один: тесно прижавшись к нему, сидели конвойные; и хоть путешествие с Семеном было не очень удобно, но теперь было неудобнее во сто крат: ручные и ножные кандалы были страшной тяжести, стирали кожу, разъедали мясо и при каждом шаге гремели.
И наступили предпоследние странствия Кюхли: Петропавловская крепость – Шлиссельбург – Динабургская крепость – Ревельская цитадель – Свеаборг. Самые для него радостные.
Потому что, когда человек путешествует по своей воле, это значит, что в любое время, если есть деньги и желание, он может сесть на корабль, в карету, в гондолу – и ехать в Берлин, и в Веймар, и в Лион. И, когда человек путешествует не по своей воле, но для того, чтобы избегнуть воли чужой, – он надеется ее избежать.
И тогда он не смотрит на небо, на солнце, на тучи, на бегущие версты, на запыленные зеленые листья придорожных дерев – или смотрит бегло. Это оттого, что он стремится вдаль, стремится покинуть именно вот эти тучи, и придорожные дерева, и бегущие версты.
Но когда человек сидит под номером шестнадцатым – и ширины в комнате три шага, а длины – пять с половиной, а лет впереди в этой комнате двадцать, и окошко маленькое, мутное, высоко над землей, – тогда путешествие радостно само по себе.
В самом деле, не все ли равно, куда тебя везут, в какой каменный гроб, немного лучше или немного хуже, сырее или суше? Главное – стремиться решительно некуда, ждать решительно нечего, и поэтому ты можешь предаваться радости по пути – ты смотришь на тучи, на солнце, на запыленные зеленые листья придорожных дерев и ничего более не хочешь – они тебе дороги сами по себе.
А если ты несколько месяцев кряду видишь всего-навсего два-три человеческих лица, и то сквозь четырехугольник, прорезанный в двери, из-за приподнимающейся темной занавески, а лицо это – лицо часового или надсмотрщика, с пристальными глазами, – то к деревьям и тучам и даже придорожным верстам ты начинаешь относиться как к людям – каждое дерево имеет свою странную, неповторимую физиономию, иногда даже сочувственную тебе.
И ты пьешь полной грудью воздух, хоть он и не всегда живительный воздух полей, а чаще воздух, наполненный пылью, которую поднимает твоя гремящая кибитка. Потому что в камере твоей воздух еще хуже.
И если даже нет кругом ни дороги, ни деревьев, ни тонкого запаха навоза сквозь дорожную пыль, если ты сидишь в плавно качающейся каюте тюремного корабля, душной и темной, немногим отличающейся от простого дощатого гроба, то все же ты испытываешь радость, – потому что гроб твой плавучий, потому что ты чувствуешь движение и изредка слышишь крики команды наверху, – в особенности если тебя везут из Петропавловской крепости, в особенности же если только двенадцать дней назад на твоих глазах повесили двоих твоих друзей и троих единомышленников.
Ты можешь закрыть глаза, ты можешь отдаться движению корабля, успокаивающему нас, ибо оно всегда в лад с движением нашей крови. Ты можешь постараться задремать – хоть на полчаса, хоть на десять минут – и не видеть, как срывается с виселицы полутруп в мешке и кричит голосом твоего друга – высокого поэта и друга, который когда-то гладил твою руку:
– Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем в мучениях.
И ты можешь на полчаса – или на десять минут – забыть грубый крик:
– Вешайте скорее снова!
Все это ты можешь забыть под глухие, как бы подземные толчки безостановочного движения корабля.
И, если тебе удастся заснуть, ты сможешь позабыть лицо своей невесты, и матери, и друзей; а заснуть ты должен и должен забыть, потому что ты был осужден на смерть, а теперь осужден на жизнь, – и впереди десятки лет одиночной тюрьмы, которую даровали тебе из милости.
И твоя каюта лучше, чем камера в три шага ширины и пять с половиной шагов длины, если даже тебя сонного с постели взяли и завязали тебе глаза и так посадили в этот темный плавучий гроб, и если ты даже не знаешь, куда тебя везут, – и если ты даже знаешь, что везут тебя в Шлиссельбург. Потому что – под тобою движение и слабый плеск воды, бьющей в бока корабля, журчащей безостановочно, – движение, которое в лад с твоей движущейся в жилах кровью!
В Закупе, все в том же помещичьем доме, жили две вдовы: Устинья Яковлевна и Устинья Карловна. Устинья Яковлевна была уж очень стара, но держалась бодро. Устинька тоже заметно состарилась.
Дети росли. Митенька был способный мальчик, но характером несколько напоминал Устинье Яковлевне дядю Вилли. Устинья Яковлевна об этом не говорила Устиньке, а Митеньку тайком баловала.
В деревне было все то же. Только Иван Летошников, старый Вильгельмов приятель, умер: замерз пьяный на дороге.
Приходил иногда на праздниках Семен, который жил теперь по вольной в городе; он остался все тем же весельчаком и забавником, от которого фыркала девичья, но стал немного прихрамывать – кандалы разъели ему левую ногу: два года просидел Семен в Гродненской крепости. С Семеном Устинья Яковлевна разговаривала по целым дням – не было ни Вильгельма, ни Мишеньки, и Семен ей рассказывал о них. Покачивая старушечьим лицом в очках, Устинья Яковлевна слушала о проказах Вильгельма Карловича и улыбалась. Потом она отпускала Семена и садилась писать письма «мальчикам» – письма ее были огромные, и писала она мелким, узеньким почерком.
Приходили письма от «мальчиков» – от Вильгельма и Мишеньки. Мишенька на каторге, в Сибири, – Вильгельм… ни мать, ни сестра не знают, где Вильгельм. На его письмах каждый раз тщательно кем-то бывало вымарано обозначение места и густой краской замазан штемпель.
Тогда обе вдовы запирались на целый день – от детей. Дети бегали, прыгали, шалили. Митенька подолгу простаивал у дверей и старался услышать, о чем говорят бабка и мать. Но они говорили тихо; и стоять у дверей ему скоро надоедало.
Где Вильгельм?
Никто не знает. Обо всех других известно, где они и что с ними, – и только о Вильгельме да еще об одном – Батенкове – никто ничего не знает.
Его письма приходили как бы с морского дна.
Устинья Яковлевна была у «самой», у Марии Федоровны, но Мария Федоровна и разговаривать с ней не стала о Вильгельме – она просто молчала в ответ, а потом, в конце аудиенции, сказала холодно:
– Сожалею вас глубоко, ma chere Justine, что у вас такой сын.
И больше Устинья Яковлевна у Марии Федоровны не бывала.
Уезжала и Устинька в Петербург – хлопотать.
В эти дни Устинья Яковлевна была особенно спокойна и приветлива; детей не бранила, читала какую-то книгу. Она знала, что если ее Устинька хочет чего-нибудь добиться, то непременно добьется. Устинька была неугомонная хлопотунья, а для Вильгельма ей ничего не было трудно.
Устинька пробыла в Петербурге с месяц, и все это время Устинья Яковлевна была спокойна и ровна. Устинька приехала. Мать посмотрела на ее лицо, ничего не спросила и ушла в свою комнату. Там она сидела до сумерек, а потом вышла как ни в чем не бывало и, как будто Устинька и не уезжала, стала говорить с ней о делах.
Мать знала, что друзья не оставляют Вильгельма, что Саша Грибоедов, который занимает очень важный пост на Востоке, хлопочет уже давно о том, чтобы Вильгельма перевели на Кавказ, что Саша Пушкин, который теперь при дворе, хочет говорить с царем о Вильгельме и только ждет удобного случая, и охотно верила каждому слуху, что вот-вот Вильгельма переведут на Кавказ – или даже сюда, в деревню.