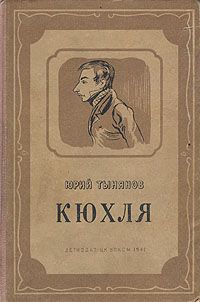Раз она даже начала убирать комнату, в которой раньше жил Вильгельм, что-то переставляла в ней, приводила в порядок книги.
Но дочери она ничего при этом не сказала, а та не спрашивала.
Однажды приехала в Закуп Дуня.
И мать и дочь знали, что Дуня любит Вильгельма. Она уже не была, как раньше, веселой и молоденькой девушкой, но быстрая и уверенная походка была у ней все та же, и так же быстры и легки были ее решения. С ней было необыкновенно все просто и ясно.
Она прогостила в Закупе дня два, и в последний день и мать и дочь о чем-то говорили с ней тихо и сторожась от детей – дети знали, что, когда мать и бабка говорят между собой тихо, дело идет о дядьях.
Потом Дуня крепко расцеловала детей, уехала, и обе вдовы стали ждать.
Дуня поехала к царю – просить разрешения отправиться к Вильгельму и с ним обвенчаться.
У нее были высокие связи, сам Бенкендорф обещал, что царь ее примет.
И царь принял ее.
Дуня склонилась перед ним в глубоком реверансе.
Николай вежливо встал с кресла и пригласил жестом сесть.
– Я к вашим услугам, – сказал он, скользя холодными глазами по ее лицу, груди, стану, рукам.
Дуня покраснела, но сказала спокойно:
– Ваше величество, у меня к вам просьба, исполнение которой может сделать меня счастливой на всю жизнь, а неисполнение несчастной.
– Служить счастию женщин – долг столь же лестный, сколь и неблагодарный, – улыбнулся одними губами Николай, не переставая скользить взглядом по девушке.
– У меня есть жених, ваше величество, – сказала тихо Дуня, – и от вас зависит, смогу ли я с ним соединиться.
– Хотя исполнение вашего желания и требует известной доли самопожертвования, – посмотрел в глаза Дуне Николай, – но я вас слушаю: чем могу быть полезен?
– Имя моего жениха Вильгельм Кюхельбекер, – сказала Дуня тихо, выдерживая взгляд царя.
Губы Николая брезгливо сморщились, и он откинулся в креслах, потом усмехнулся:
– Сожалею о вас.
– Ваше величество, – сказала Дуня умоляюще, – я готова последовать за моим женихом всюду, куда будет нужно.
– Это невозможно, – возразил Николай холодно, не переставая смотреть на нее.
– Ваше величество, я готова идти на каторгу, в Сибирь, всюду, – повторила Дуня.
– Что же вас ждет там? Не лучше ли отказаться от такого жениха? – Николай снова поморщился.
Дуня сложила руки:
– Вы заставили бы смотреть на вас как на избавителя, если бы согласились на это.
Николай встал. Дуня поспешно поднялась. Он слегка улыбнулся:
– Это невозможно.
– Почему, ваше величество?
Николая покоробило.
– Когда я говорю, что это невозможно, – излишне спрашивать о причинах. Но если вы желаете знать причины, – прибавил он, опять улыбаясь, – извольте: ваш жених в крепости, а жениться, находясь в одиночном заключении, неудобно.
Вильгельм писал матери, что здоров и спокоен.
И это была правда, по крайней мере наполовину. Он успокоился.
Полковник сам запер за ним дверь. Ключ был большой, тяжелый, похожий на тот, которым в Закупе сторож запирал на ночь ворота.
У Греча была своя типография, у Булгарина был журнал, у Устиньки – дом и двор, у полковника – ключи.
Только у Вильгельма никогда ничего не было.
Его сажал за корректуры Греч, ему платил деньги Булгарин, а теперь этот старый полковник с висячими усами запер его на ключ.
Это все были люди порядка. Вильгельм никогда не понимал людей порядка, он подозревал чудеса, хитрую механику в самом простом деле, он ломал голову над тем, как это человек платит деньги, или имеет дом, или имеет власть. И никогда у него не было ни дома, ни денег, ни власти. У него было только ремесло литератора, которое принесло насмешки, брань и долги. Он всегда чувствовал – настанет день, и люди порядка обратят на него свое внимание, они его сократят, они его пристроят к месту.
Все его друзья, собственно, заботились о том, чтобы как-нибудь его пристроить к месту. И ничего не удавалось – отовсюду его выталкивало, и каждое дело, которое, казалось, вот-вот удастся, в самый последний миг срывалось: не удался даже выстрел.
И вот теперь люди порядка водворили его на место, и место это было покойное. Для большего спокойствия ему не давали первые годы ни чернил, ни бумаги, ни перьев. Вильгельм ходил по камере, сочинял стихи и потом учил их на память.
Память ему изменяла, – и стихи через несколько месяцев куда-то проваливались.
Когда-то, когда он жил у Греча и работал у Булгарина, Вильгельм чувствовал себя Гулливером у лилипутов. Теперь он сам стал лилипутом, а вещи вокруг – Гулливерами. Огромное поле для наблюдений – окошко наверху, в частых решетках. Праздник, когда мартовский кот случайно забредет на это окошко.
О, если бы он замяукал! И выгнул бы спинку!
Топографию камеры Вильгельм изучал постепенно, чтобы не слишком быстро ее исчерпать. На сегодня – осмотр одной стены, несколько вершков, разумеется, – на завтра другой.
На стенах надписи, профили, женские по большей части, стихи.
«Брат, я решился на самоубийство. Прощайте, родные мои». (Гвоздиком, длинные буквы, неровные, но глубокие – уцелели от скребки.) «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. F. S.»[39] (Чрезвычайно ровные, аккуратные буквы, по законченности букв – вероятно, ногтем.) «Осталось 8 лет 10 месяцев. Болен». (Широкие буквы – может быть, шляпкой гвоздя.)
Одна надпись напугала Вильгельма:
«Мучители, душу вашу распять. Наполеон, император всероссийский». (Очень глубокие буквы, но по тому, что штукатурка по краешкам не издергана, – вероятно, ногтем.) Кто-то сошел здесь с ума.
И Вильгельм распоряжается своими воспоминаниями. Нужно быть скупым на воспоминания, когда сидишь в крепости. Это все, что осталось. А Вильгельму было всего тридцать лет.
Засыпая, он назначал на завтра, что вспоминать.
Лицей, Пушкина и Дельвига. – Александра (Грибоедова). – Мать и сестру. – Париж. – Брата. – И только иногда: Дуню.
Только иногда. Потому что если с утра узник № 16 начинает вспоминать о Дуне, шаги часового у камеры № 16 учащаются.
В четырехугольное оконце смотрит человеческий глаз, и человеческий голос говорит:
– Бегать по камере нельзя.
Проходят два часа – и снова глаз, и снова голос:
– Разговаривать воспрещается.
А два раза случилось слышать Вильгельму странные какие-то запрещения:
– Бить головой о стенку не полагается.
– Неужели не полагается? – спросил рассеянно Вильгельм.
И голос добавил, почти добродушно:
– И плакать громко тоже нельзя.
– Ну? – удивился Вильгельм и испугался своего тонкого, скрипучего голоса, – тогда я не буду.
Поэтому Вильгельм только изредка назначал Дуню.
И как когда-то он построил людей, чтобы вести их в штыки против картечи, так теперь ему удавалось строить свои воспоминания: один, Виля, Кюхля – был бедный, бедный человек; ему ничего никогда не удавалось до конца; и вот теперь этот бедный человек прыгал по клетке и считал свои годы, которые ему осталось провести в ней, даже не зная, собственно, хорошенько, на сколько лет его осудили: ему было присуждено двадцать лет каторги, а он сидел в одиночной тюрьме.
А другой человек, старший, распоряжался им с утра до ночи, ходил по камере, сочинял стихи и назначал Виле и Кюхле воспоминания и праздники.
У Вильгельма бывали и праздники: именины друзей, лицейские годовщины.
В особенности день Александра – 30 августа: именины Пушкина, Грибоедова, Саши Одоевского. Кюхля вел с ними целый день воображаемые разговоры.
– Ну что ж, Александр? – говорил он Грибоедову. – Ты видишь – я жив наперекор всему и всем. Милый, что ты теперь пишешь? Ты ведь преобразуешь весь русский театр. Александр, ты русскую речь на улице берешь, не в гостиных. Ты да Крылов. Как теперь Алексей Петрович поживает? Спорите ли по-прежнему? Сердце как? Неужели так углем и осталось? Скажи, милый.
Голоса Вильгельм припомнить не мог, но жесты остались: Грибоедов пожимал плечами, кивал медленно головой, а на вопрос о сердце – растерянно поднимал кверху, в сторону тонкие пальцы.
– Поздравляю, Саша, – прикладывался щекой Вильгельм к Пушкину, – голубчик мой, радость, пришли мне все, все, что написал; вообрази, я твоих «Цыган» от доски до доски помню:
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Как ты это сказал, Саша, – хоть иду своим путем в поэзии и Державина величайшим поэтом считаю, но в твоих стихах и мое сердце есть.
Пушкин улыбался во тьме и начинал тормошить Вильгельма смущенно.
И так проходил день.
Не раз поднималась занавеска в этот день над камерой № 16, и тревожный голос с хохлацким акцентом говорил:
– Та ж запрещено говорить у камери.
Но по ночам старший Вильгельм исчезал, и в камере оставался один Вильгельм – прежний. И снами своими узник № 16 распоряжаться не умел. Он просыпался, дергаясь всем телом, от воображаемого стука (их будили в Петропавловской крепости резким стуком по нескольку раз в ночь – чтобы они не спали). Он снова стоял в очной ставке с Jeannot, с Пущиным, старым другом, и, плача, кланяясь, говорил, что это Пущин сказал ему: