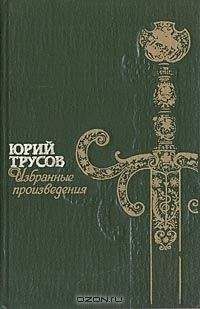Григорий окаменел от страха.
— Пошел в строй! — крикнул Хурделица и обратился к казакам. — А вам я не советую более ходить по этой дороге... Гляди, еще за беглых примут.
Он скомандовал своим конникам построиться походным порядком, и через миг гусары быстро, как летучие призраки, растворились в морозной темноте ночи.
Ошеломленные неожиданной встречей, казаки долго молча вслушивались в стук копыт удаляющейся сотни.
Первым нарушил молчание Чухрай. Он схватился руками за живот, и степь вдруг огласилась раскатистым хохотом.
— Братчики мои, паны-казаки! Ох и здорово наш Кондратка над Иудой-Супом потешился. Сказал ему, что я не я: ростом, мол, Чухрай повыше, и в плечах поширше... Ха-ха-ха!
Смех Семена заразил и остальных беглецов. Захохотали даже самые хмурые. Видимо, только что пережитый страх нашел свой выход в этом веселье. Когда оно утихло,
Яков Рудой посоветовал сойти с дороги и пробираться далее к Аккерману малыми группами.
— Не зря нам это Кондрат присоветовал. Не зря , А то в недобрый час на других гусар наткнешься... согласились с ним товарищи.
И опять казаки нехоженой степью стали пробираться к Днестру на Аккерман.
Ни встречный морозный ветер, ни быстрая езда не смогли успокоить Кондрата. Мысль о том, что Григорий Суп друг его юности, только что у него на глазах пытался предать своих боевых товарищей, вызывала в нем ярость. «Неужели наша Лебяжья заводь вскормила такого гада? Отроду в нашем краю зрадников (предатель (укр.)) не было! А ведь раньше он был не таким»,— думал Хурделица.
И ему вспомнились те далекие дни, когда он с Супом — оба мальчишки — бродили по камышовым тилигульским зарослям, охотились на кабанов, часто выручая друг друга из беды. Вспомнилось Кондрату, как он в одном строю с Супом не раз рубился с ордынцами... «Почему же он так изменился? Почему?» — размышлял горестно Кондрат и не находил ответа. «Видно, дурь какая-то в голове завелась», — наконец, решил он. Хурделица знал единственный способ, как избавить человека от этого. Надо было применить силу, выбить из казака дурь, чтобы и впредь он паскудить закаялся...
Теперь он чувствовал себя в какой-то степени ответственным за товарища. Кондрат уже знал, как поступить с человеком, запятнавшим казачью честь, как вывести его снова на правильный путь. Пусть это жестоко, но он обязан сделать это.
Хурделица осмотрелся вокруг. До молдаванской деревушки, куда он вел на ночлег свою сотню, оставалось не более версты. Дорога шла по безлюдной заснеженной степи. Только ледяные огоньки далеких звезд дрожали над ними высоко в небе.
Кондрат приказал гусарам следовать к деревушке, а сам подозвал к себе Супа и, пропустив вперед сотню, медленно поехал рядом с ним, молча поглядывая на встревоженное лицо предателя. Поеживаясь от холодного ветра, насупившись, тот мрачно косился на Хурделицу.
— Видал, какие они бедолаги.., В гроб краше кладут... А Чухрай?.. А Чухрай? В чем душа только держится... Совсем на каторге иссохлись, измучились все, А ты их... — волнуясь, отрывисто сказал он Григорию.
Суп остановил лошадь.
— Напрасно, ваше благородие, ты этих беглых отпустил. Отвечать придется, — с угрозой произнес Суп.
Хурделица понял, что никакие слова не подействуют на Григория. Этот человек способен снова предать всех и даже его самого.
Весь гнев его, который он так долго и терпеливо сдерживал, теперь вдруг прорвался.
— Ах, ты, Иуда препаскудный! Еще грозишься! — крикнул Кондрат,
Григорий схватился за саблю, но не успел ее вытащить из ножен: ударом казацкой нагайки Хурделица вышиб его из седла. Свалившись с лошади, Суп вскочил на ноги, обнажил саблю, но нагайка Кондрата снова просвистела в воздухе. Ее кожаный конец с зашитой свинцовой пулей впился в руку Григория. Парализованные болью пальцы разжались и выпустили рукоятку сабли. Град новых ударов обрушился на голову и плечи предателя. Оглушенный ими, он упал. Ярость Кондрата сразу утихла. Он спешился, подбежал к лежащему Супу, стал прикладывать снег к его окровавленному лицу. Григорий пришел в себя. Хурделица вернул ему оброненное оружие, помог сесть на коня. Суп еле держался в седле. Поэтому Кондрат поехал с ним рядом, поддерживая его, словно хмельного, за плечи.
— Ты обиду на меня не держи, — говорил он Григорию. — Ведь я же тебя для пользы так... Для пользы твоей! Пакость твою иудину выбить по дружбе хотел... Ты же полсотни людей невинных чуть не сгубил! Братов своих... Они от смерти лютой тикалы, а ты их... — страстно убеждал Хурделица Супа.
Григорий угрюмо молчал. Раскаяния он не чувствовал. Разбитыми пальцами поглаживал хранящийся у него за пазухой мешочек с золотыми монетами. Он был рад, что не потерял его. А Кондрату он не простит. Будет время — сведет счеты.
Когда они подъехали к ожидавшей их сотне, Хурделица сказал гусарам, указывая на Супа:
— Помогите, братцы, казачку. С коня упал, разбился...
Но глазам гусар Кондрат понял, что они догадываются обо всем и одобрительно относятся к наказанию предателя. Ведь каждый из них, как и Хурделица, ненавидел и презирал подлецов.
XII. «ОСТОРОЖНО, ВАША СВЕТЛОСТЬ!»
«Беглые не отысканы»,— доложил начальству Хурделица, прибыв в Измаил.
Обугленные, занесенные снегом, полуразрушенные здания Измаила не отапливались и были плохо приспособлены для жилья. Но гусары так измотались на марше по зимним дорогам, что Кондрат, как ему ни хотелось поскорее вернуться в Галац, вынужден был остановиться здесь на отдых.
На третьи сутки утром, когда он только построил сотню, чтобы двинуться в путь, перед ним появился Зюзин.
Кондрат спрыгнул с коня, и друзья крепко обнялись. Оказалось, что батальон херсонцев, в котором служил Зюзин, зимует недалеко отсюда, в селе Броска, и Василий приехал в Измаил по какому-то делу. Друзьям не удалось вдоволь наговориться — Хурделицу окликнул ординарец коменданта. Приглашение удивило Кондрата своей категоричностью. Оно напоминало скорее приказ.
— Видно, случилось невесть что, — сказал он Зюзину и, простившись с ним, поспешил в комендантскую.
Там он увидел князя Бельмяшева, сидящего за столом, и двух часовых у дверей. Кондрат хотел было спросить, где комендант, но Бельмяшев, не дав ему раскрыть рта, сразу объявил (в голосе его слышались торжествующие нотки):
— Вы арестованы. Немедленно сдать оружие.
По знаку князя, звякнув ружьями, часовые стали плечом к плечу с Хурделицей.
Кондрат все понял. Он снял саблю и отдал ее князю. Сколько раз безотказно выручала она его в боях. Бельмяшев как-то поспешно схватил клинок холеными белыми пальцами, стал поглаживать золотой тельмяк. «Не тебе держать ее», — чуть не вырвалось у Кондрата, но он сдержался и тихо спросил:
— А пошто на меня такая напасть, ваша светлость?
Бельмяшев прищурил недобрые глаза:
— Ты еще спрашиваешь, клятвопреступник, за что?! — В его бабьем голосе послышались визгливые нотки: — Да за то, что вместо имать бунтовщиков, злодеев предерзостных, ты, изменив присяге, данной державоправительнице нашей, вопреки званию и чину своему, оных крамольников на волю пустил. Да еще верного человека, которого тебе в помощь дали, избиению подверг. Что молчишь? Отпустил злодеев? Ответствуй!
— Что ж, отпустил. И сейчас, в другой раз, отпустил бы... — не повышая голоса, ответил Кондрат. Но в его тоне звучал такой вызов, что Бельмяшев, ожидавший от арестованного офицера отрицания своей вины, был поражен.
— Да, ваша светлость! Я не неволил их, ибо они браты мои по чести казачьей, по кошу вольному...
— Замолчи! Тебя в звание благородное возвели, а ты был и есть отродье хамово, — заскрежетал зубами князь. — Тебя, одного из тысячи холопов, светлейший осчастливил, а ты... Ты так отблагодарил! Лукавый, подлый раб! Таким ноздри рвать да в Сибирь! — Он выхватил из ножен саблю Кондрата и замахнулся на него клинком. — Таких, как ты, четвертовать надобно...
— Осторожно, ваша светлость! Сабля у меня вострая. Неровен час — и порезаться можете! — поднял Кондрат голову и двинулся на Бельмяшева.
Тот невольно отступил назад. «Видать, силен этот хам-крамольник. Пока его саблей срубишь, он голыми руками тебе шею свернет». И, бледнея от страха и злобы, князь, все еще продолжая пятиться, закричал часовым:
— Увести злодея!
Стражники замкнули арестованного в полуподвальном каземате двухъярусного измаильского бастиона, который не так давно Хурделица отбивал во время штурма у турок. В каземате было тесно, темно, а главное, очень холодно — словно в ледяной могиле. Но Кондрат был так потрясен неожиданным поворотом своей судьбы, что ни на что не обратил внимания. Он страдал от другого — от мысли о том, что ему теперь едва ли придется вернуться в свой родной дом в Хаджибей, к Маринке. Вряд ли помилует его тайная экспедиция или кригсрехт, где заседают такие судьи, как князь Бельмяшев. Видимо, не миновать ему — в лучшем случае — разжалования, шпицрутенов и вечной солдатчины. А в худшем, пожалуй, и сибирской каторги. Мрачные думы так овладели Кондратом, что он даже не услышал, как открылась дверь каземата. Очнулся от прикосновения чьей-то теплой ладони к щеке.