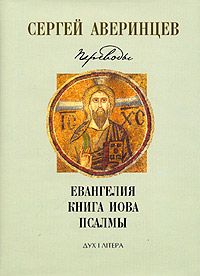Длинная прядь травы лежала на его ладони. Привядшей, но еще зеленой травы.
– Кровавка – так ее называют, – сказал он и начал жевать траву.
Выплюнув зеленую кашицу на пальцы, он оголил ногу.
На бедре кровоточила широкая рана. Война положил на нее кашицу и начал втирать. Кожа на его лице из горчичной стала зеленоватой.
– Горит, – глухо сказал он. – Значит, хорошо. Значит, антонов огонь не прикинулся.
Достав из картуза черного пороху, он смочил его слюной и положил на рану сверху. Затем перевязал ногу чистой белой тряпочкой.
Алесь смотрел немного брезгливо, и Война заметил это.
– Противно? – сказал он. – А ты не брезгуй. Без этого ни один настоящий мужчина не проживет. Может, и тебе доведется когда, упаси господь.
– Мне не доведется.
– Не зарекайся. Ты что же, любишь жандармов?
– Нет.
– Видишь, отец твой их не любит. Дед тоже. И прадед не любил. Все… Клетки не любит никто. Каждый, кроме труса, хочет ее сломать. А свободного ожидают петля, раны, смерть.
Обессиленный, он осторожно прилег на бок.
– И все равно это лучше, – пробормотал он. – Забиться куда-нибудь и… подохнуть. Лишь бы не висеть в мешке, как гусь на откорме… Чтоб не лез к тебе каждый грязными пальцами в клюв, не совал туда орешков… Чем их орешки, лучше своя ряска в болоте.
Прикрыл глаза.
– Ты один? – спросил он.
– Нет, там, на гривах, молочный дедов брат.
– Угу, – сказал Война. – Этот тоже будет молчать. Ты иди к нему. Я полежу, отдохну… Мне надо быть спокойным. И хитрым.
– Может, привести вам коня?
– Го! Это далеко… Очень далеко. Теперь мне надо добывать другого, чтоб добраться до своего.
Алесь поднялся.
– Я пойду. Я… не скажу никому.
– Знаю, – просто сказал Война.
Он умолк. Алесь окинул его взглядом, позвал Алму и пошел с ней к опушке.
Лес редел. Алесь видел, как лучи солнца все чаще пробивали своими пиками листву, как они пробирались в самую чащу, как навстречу им дымилась земля.
Между ней и солнцем в воздухе клубились рои мошек, словно тысячи докрасна раскаленных веселых искринок, что вели и вели свой тревожный и радостный танец.
…История с болотной погоней окончилась совсем неожиданно.
Война не мог знать, что на него в этот раз охотился не один Мусатов. Мусатову прислали в помощники человека из губернии. Начальству надоела неуловимость Черного Войны. С этим осколком прошлого восстания надо было кончать. Начальство не сердилось на Аполлона Мусатова: оно знало, что преступнику в своем доме помогают и стены, что Мусатов распорядительный и деятельный человек и не его вина в том, что бандит гуляет на свободе.
Собирать сведения было не его дело. Следить, расспрашивать крестьян, ловить краем уха их беседы должен сыщик.
Так появился в окрестностях Суходола Николай Буланцов, знаток нужной государству профессии, расторопный молодой человек лет двадцати.
Буланцову необходимо было повышение еще больше, чем Мусатову. Последний уже достиг кое-чего, а этот лишь делал первые шаги. Мусатов все же имел дворянство, пускай нищенское и пришедшее в упадок, а Буланцов был выходцем из кантонистов, из париев, выученных на медные гроши, из тех, ниже кого на всех обширных просторах Российской империи были лишь военные поселенцы да еще барщинные крестьяне у очень плохих помещиков.
Сын битого, сеченого отца, человек, чье детство прошло в казарме и единственным развлечением была порка, когда беглых прогоняли сквозь строй, он жаждал карьеры как избавления от окружающих ужасов, от зуботычин, от стояния с кирпичной выкладкой под ружьем.
Начальство всегда было право. А если подчиненным было и не очень сладко под его грозной дланью, тем хуже для подчиненных. Значит, надо возвыситься, чтоб не страдать от рукоприкладства. Нужно стать незаменимым, и тогда сам получишь право бить, сам заставишь других бояться и тянуться перед тобой в струнку.
Таковы были его нехитрые рассуждения. Впрочем, он мыслил, как и вся порода карьеристов, какой она была и какой она будет.
Нервный и желчный, но внешне дисциплинированный и рассудительный, Николай Буланцов понял, что Мусатов берется за дело не с того конца. Надо было точно знать, где бывает бандит, а гоняться за ним последнее дело.
И он вспомнил о тайне исповеди. А поскольку ни один уважающий себя священник не выдаст этой тайны, он подумал, что священник, наверно, может поделиться интересной новостью с дьяконом своей церкви. А у дьякона конечно же есть жена, которой нет никакого смысла особенно хранить чужой секрет.
Все церкви, кроме как в Раубичах и Загорщине, были закрыты по приказу старого Вежи.
Службы отправляли только в церкви в Милом. И там Буланцову повезло. Ему удалось втереться в доверие к дьяконице и получить сообщение, что Война помогает деньгами крестьянам глухой деревни Янушполе и время от времени пополняет там запасы овса для своего коня.
Из губернии и уезда вызвали полицию, с псарни Кроера взяли собак и незаметно окружили деревню.
Война нарвался на засаду на двенадцатые сутки. Вышел из пущи прямо под пули. Тут бы выждать немного и брать его, но погорячились земские и открыли стрельбу, когда до осторожного Войны было еще саженей сорок. Побоялись подпустить его ближе.
Раненый Война убежал. За ним гнались три часа и уже ночью загнали его в болото, залитое водой. Мокнуть никому не хотелось, тем более что шли по кровавым следам, которые тянул Война по росянке и сивцу. Поэтому реквизировали три плоскодонки и с факелами двинули за ним. Верхом поехал только Мусатов на своем чалом.
Прочесали все – и напрасно: то ли не увидели в темноте, то ли человек захлебнулся, то ли успел улизнуть из болота в лес, к счастью не такой уж и большой.
Буланцов по приказу Мусатова оцепил лесной остров. Сам Мусатов остался у края болота, зная, что волк всегда кидается от загонщиков туда, где, как ему кажется, никого нет и где его ожидает охотник.
Он думал – и вообще резонно, – что Война спешит как можно дальше уйти от болота. Он не мог и представить, что рана слишком тяжела, чтоб далеко удрать, что она в ногу, что, лишь собрав последние усилия, убегал от них так долго человек, который выше всего ценил свободу.
И Мусатов остался. Слез с лошади и присел на кочку, зная, что ожидать ему придется никак не меньше часа.
Война видел это. Он лежал на том самом месте, где нашел его Алесь, саженях в тридцати от Мусатова. А поскольку для Войны это был единственный путь спасения, он действовал более осторожно, чем его враг.
Он пополз. Пополз не спеша, зная, что каждое поспешное движение – это его, Войны, смерть.
Ему повезло. Жандарм оглянулся лишь два раза. Он знал, что зверь никогда не бежит с лежки, пока не услышит галдежа загонщиков.
Война не хотел убивать. Шум к добру не приведет. Кроме того, ему необходим был покой на пару недель, пока он отлежится и выздоровеет. Он знал: если убьет, власти нагонят в округу столько сыщиков, что это будет конец.
Он полз к коню. И когда до чалого осталось каких-то три шага, он резко поднялся и из последних сил обхватил коня за шею. Копь фыркнул и шарахнулся в сторону. Мусатов услыхал фырканье и обернулся.
Заслоненный лошадиным телом, стоял совсем неподалеку от него тот, за кем они охотились. И пистолеты были в обеих руках Войны. Первый выстрел жандарма неминуемо свалил бы коня, и первый выстрел мог быть смертельным для него, Мусатова, если в ответ грохнут пистолеты врага.
Этот не промахнется, Мусатов, к сожалению, слишком хорошо знал его.
– Мусатов, – сказал Война, – покажи свои козыри.
Зеленоватые глаза жандарма с полным сознанием опасности смотрели на Войну. Мусатов в первое же мгновение трезво оценил обстановку, понял, что Война стрелять не будет, если не выстрелит он, Мусатов, и, значит, ему не придется платить за игру жизнью.
Потому он сразу понял: проигрыш.
И он с твердой улыбкой положил руку на рукоятку пистолета.
– Козырный король, – сказал он.
– У меня туз и дама, – сказал Война. – Бросай карты.
– Я знаю, – сказал Мусатов. – У тебя две биты, у меня одна.
– К счастью, – сказал Война.
– К сожалению, – сказал Мусатов.
– Бросай, – сказал Война.
– Сейчас, – сказал Мусатов.
– Вывинти кремень.
– Почему бы и нет, когда любезный господин просит?
Руки Мусатова вывинтили кремень и отбросили его. Война знал теперь: чтоб поставить новый, надо две минуты, и пока он не двинется, Мусатов не начнет. Значит, самое малое – сто восемьдесят саженей.
Скрипя зубами, он попробовал сесть, сорвался, чувствуя, как с висков стекает холодный пот, и снова почти одними руками забросил в седло свое изболевшее, тяжелое тело.
И сразу взял в бешеный галоп прямо по воде, что заливала луг, туда, к далеким гривам, в брызгах воды, в пене.