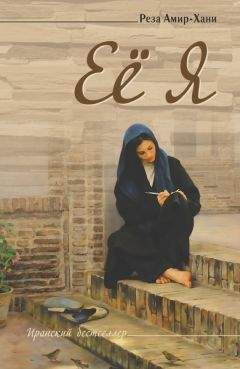– Разве семья может радоваться подобному обстоятельству? Услать девочку в Европу…
– Да проклянет Аллах тех, кто до этого довел…
– Девочка как луна прекрасна, настоящая молодая хозяйка, а вот вынуждена ехать в ассирийский плен…
– Стыд и позор перед всем миром, эти беспринципные неверующие…
Марьям слышала эти реплики. И вновь вспоминала Эз… (смотри главу «6. Она»).
* * *
На Фахр аль-Таджара и его дочь почти не обращали внимания – все наблюдали за Марьям. Она попрощалась с мамой и Али в крытом коридоре. Али плакал, и матушка тоже; Али почему-то казалось, что сестра уезжает из-за его плохого поведения. Марьям обняла Махтаб, нежно погладила ее кофейного цвета волосы и сказала:
– Заботься об Али!
Махтаб улыбнулась, а матушка притворилась, будто не слышала. Али, отвернувшись, уперся лбом в стенку. Вновь к его горлу подступили рыдания, причину которых он сам не до конца понимал.
Наконец Марьям уселась на заднее сиденье «Доджа». Искандер и водитель все еще грузили вещи в багажник сзади и прикрепляли к крыше машины. Рабочие с фабрики и соседи делали заказы водителю, что следует Фаттаху привезти из Франции. Самому Фаттаху было сейчас не до заказов – он разговаривал с Фахр аль-Таджаром.
– …Первая моя надежда на Всевышнего, вторая на тебя, – говорил ему Фахр аль-Таджар. – Моя Шахин и Марьям мне одинаково дороги, как и тебе! Шахин ведь как внучка тебе, как дочь…
Муса с перекошенным от ярости лицом вытащил нож из ножен и зарезал барашка. Народ довольно-таки унылыми голосами вознес молитвы. Дарьяни вынес поднос из лавки и отдал его Мусе:
– Если не трудно, нашу долю сюда положи!
– Дарьяни! – проворчал Муса. – Дай хоть крови-то стечь…
Дарьяни попрощался с Фаттахом, но между ним и Марьям оставалась непроясненность. Не только из-за таких вещей, как конфеты для всего класса, но каким-то ведь образом – пусть отдаленно – и смерть Эззати была связана с Марьям. И вот Дарьяни нагнулся к открытому окошку «Доджа» и, не глядя на Марьям, произнес:
– Что бы там ни было… да хранит вас Аллах!
Подошел и Муса-мясник, вытирая окровавленный нож о брюки. Нагнулся к окошку машины и, опустив глаза, сказал Марьям:
– На радость и на удачу…
И никаких больше слов найти не смог. Его оттеснил Карим, просунувший в окошко «Доджа» целый мешок для Марьям.
– Марьям-хунум! Тут сушеная вишня, шелковица, курага, они не портятся. А кроме того, я для вас взял в поварне четыре порции языка, они с хлебом наверху лежат. Я помню, как в тот день… помню, что вы любите язык… Дай вам Бог…
Марьям улыбнулась:
– Потрудился ты… Ты думаешь, мы все так же, как ты, озабочены едой? Спасибо тебе большое! Мы все это съедим с Шахин-ханум…
И Карим улыбнулся:
– Труда мне не составило! Это же за счет хозяина… Взял в поварне… Но будьте спокойны, у соседа-лавочника ничего не брал!
У Марьям настроение улучшилось. Пришло время последних прощаний. Люди подходили к машине, говорили каждый свое… Дервиш Мустафа заметил столпотворение издали. Он стоял в начале переулка. И выразительные его глаза встретились с глазами Марьям. После этого, ничего не сказав, он ушел… А у Марьям снова перехватила горло тоска… Она подняла глаза на матушку, которая, из страха перед полицией, стояла возле машины надев поверх платка шляпу с перьями:
– Я не хочу уезжать… Человек у себя дома большему учится!
Матушка плакала. Хотелось сказать Марьям: ты, мол, едешь не для учебы. Дед сел на переднее сиденье и приказал шоферу:
– Трогай!
Фахр аль-Таджар и его супруга в последний раз попрощались с дочерью, а Марьям в очередной раз сказала словно себе самой:
– Человек у себя дома большему учится… Но если вам так угодно, пусть! – Она всхлипнула. – Я так постараюсь сделать, чтобы там было как дома…
Ее никто не слышал. Машина плавно поехала. Брызги от нее не смогли, конечно, прибить к земле пыль, от которой еще сильнее защипало глаза Али и Махтаб…
Именно так, как обещала сама себе, Марьям жила во Франции – словно перенеся туда свой дом. И научилась во Франции многому, не только рисованию… Рисование само собой, но еще она, по сути дела, научилась жизни.
С дочерью Фахр аль-Таджара они жили вместе, но учились по разным специальностям. Столовались вместе, но смотрели на мир по-своему. Невзирая ни на что, держались друг друга до получения дипломов в одном и том же университете. Потом, конечно, дороги их разошлись: Марьям стала художницей, а Шахин Фахр аль-Таджар психологом (если я не ошибаюсь)… Да, именно психологом. И когда Махтаб несколько лет спустя приехала во Францию, о Фрейде и Юнге ей рассказывала именно Шахин Фахр аль-Таджар.
Марьям осталась во Франции и сделалась там во многих отношениях своей. Не только потому, что вышла замуж за своего высокого и смуглого алжирца, но и потому… потому, что такова была ее судьба.
Марьям познакомила меня с ним, когда я приехал в Париж в третий раз. По-моему, это было уже после смерти деда… Да-да, это было в 1954 году. Она сказала: он только что вырвался на свободу. Я ответил, что рад за него, так, значит, он был в тюрьме? И сколько же стволов было задействовано в его освобождении? Улыбнувшись, она ответила, что пистолетами не отделались. На что я произнес: я же не спросил, сколько пистолетных стволов, я спросил, сколько стволов. «Ой, Али, я в этом мало разбираюсь, – ответила Марьям. – Он боролся за свободу…»
Я написал «тюрьма»… Да, тюрьма. Преступления могут быть разные, но тюрьма есть тюрьма…
Марьям предложила мне познакомиться с ним, пригласить как-нибудь его и ее поужинать вместе. Затем, там же, где мы были, в кафе месье Пернье, в присутствии Махтаб, она сказала:
– Али-джан! Ты меня моложе, однако прошу тебя, считай себя моим опекуном-поручителем[70].
Я удивился: до сих пор Марьям не причисляла меня даже к достаточно разумным людям… И рассмеялся:
– Опекуном высокоуважаемой? Я пока не удостаивался чести быть признанным даже равным с вами, а уж опекуном…
– Да помилует Аллах покойного Карима, – молвила Марьям, – тем более тут Махтаб сидит… Но прошу тебя, Али, давай обойдемся без этого каримовского цирка, без бретерства этого… Я говорю серьезно: ты для меня сегодня мужчина-опекун… – Потом с каким-то смущением добавила: – Я буду тебе очень благодарна, братец!
– Хорошо, сестричка, – ответил я. – Ты сама разрезала, сама же и сшила. Но, когда уже сшила, зачем говорить еще о какой-то благодарности?
Марьям развеселилась:
– Спасибо тебе заранее, братец дорогой, защитник мой рыцарственный… Так ты обещаешь мне?
Что я мог ответить?
– Жених согласен, невеста согласна, а я какого черта буду возражать?
Марьям приняла далее некую позу. Подняв сросшиеся брови, она укусила себя за руку между большим и указательными пальцами и произнесла:
– Помилуй Аллах!
…Я хотел спросить ее: какое чудо с тобой сотворил этот алжирский араб, здоровенная черная горилла, способная питаться одними ящерицами без соли, что ты, как четырнадцатилетняя девчонка, влюбилась в него совершенно по уши? Я хотел спросить ее, не желает ли она взять пример с Шахин Фахр аль-Таджар, которая два года назад вернулась в Иран и честь по чести вышла замуж за врача, и вскоре Всевышний дал им здоровенького сынишку? И старик Фахр аль-Таджар успел влюбиться в этого ребеночка и наречь его Хани, а затем уже, со спокойной, так сказать, душой отправиться в мир иной …
Я еще многое хотел бы спросить Марьям, но заметил, как Махтаб чуть-чуть постукивает ложечкой по чашке. А когда мы с Махтаб встретились глазами, она так, чтобы Марьям не видела, показала жестом, дескать, хватит, не переигрывай… И я сказал Марьям:
– Что ж, будьте благословенны. Но когда этот, – я пытался подобрать какое-нибудь арабское слово, – этот идмихляль[71]… когда я его увижу?
– Да хоть завтра! Допустим, прямо здесь… Кстати, у твоего будущего зятя есть имя! «Идмихляль» – это что значит? Форма прошедшего времени?
– Иди себе и ни о чем не думай! – ответил я. – Мы окажем нашему Идмихлялю плохую услугу, если будем говорить о нем в прошедшем времени, еще не познакомившись!
– Значит, и не надо никаких словечек: его зовут Абу Расеф. И он, кстати, мусульманин. Абу Расеф очень хочет познакомиться с тобой, и не только для того, чтобы ты, как старший мужчина в семье, благословил бы наш брак…
– Ах! – сказал я и приложил руку тыльной стороной к своей щеке, а потом начал отбивать ритм по столу. – Только, ради Аллаха, не надо сюда шариат примешивать! Вы влюблены, и точка, и вера здесь ни при чем! Только скажи ему, чтобы пришел завтра сытый!
Марьям и Махтаб удивленно хором спросили:
– Почему сытый?
– А чтоб он не решил подзакусить мною и Махтаб!
И теперь мы наконец рассмеялись все втроем… Когда Махтаб смеялась, ее карие глаза покрывались как бы пленочкой слезы. Раскрывался и лопался бутон ее губ, и все пространство наполнял запах жасмина… Когда она отсмеялась, я сказал: