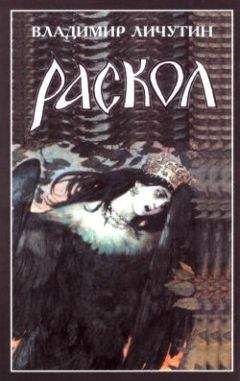«Тебе ли нявгать, скотина. Лаптя обора...»
«А ты – урод и плут. Г... окусок. Наливкою тебя по темечку огрею – и прощай навеки. Зря свет коптишь, балабон».
Приказчик для острастки даже поогляделся, словно бы наискивая что потяжельше – черпак, иль аньшпуг черемховый, каким винные бочки раскатывали по погребице, иль дверной запорный брус. Захарка неожиданно скуксился, ну чистый ребенок, и пробежистые смородиновые глаза остекленели, налились густой непрозрачной слезою. Он по-детски всхлипнул, с тоскою отворачиваясь от приказчика; седой мальчонка, ростом с аршин, так и не выросший из коротких штанишонок, по-цыплачьи сгорбился, сникнул, – ну прямо само вселенское горе. И челядинник, в ком душа христианская не умерла, сразу позабыл все примолвки о карле, рассолодился сердцем, размяк от нахлынувшей жалости.
«Ну, будет тебе реветь-то... Во что ленуть?»
Захарка молча плакал, уливаясь слезьми, не успевая обирать тонкими кулачонками, искренно страдая по себе.
«Хочешь, в бурачок налью? Сподручнее несть».
Карла кивнул, не показывая лица.
«Да ступай-то, милый, кухаркиной лестницей. Ухоронкой иди. И на глаза дворецкому не попадись. Он нынче порато лютый... Гли мне, нехристь. Он тада с меня живого шкуру спустит... Ишь ты, и впрямь человечья образина, хоть и непуть, – изумился уж в который раз приказчик, оглядывая карлу. – И плачешь-то взаболь. Смотрю на тебя – не надивуюсь. Ино осьмое чудо света».
Захарка хрюкнул, будто давясь слезами; это внезапный смех едва проглотил. Утерся подолом, подхватил бурак и, топая босыми пятками, вдвое сламываясь под тяжестью питья, поспешил к себе.
«Я тебя подведу под монастырь, б... сын. Ты у меня еще запляшешь под чертову дудку, под бисову трубку», – злорадно бормотал Захарка, машинально сосчитывая ступеньки.
Заскочив в чулан, достал с груди из-под шелковой срачицы кипарисовый крест-мощевик, с обратной стороны древа открыл тайную склышечку, отсыпал на ноготь белого сверкающего порошка с маковое зернышко, прильнул носом, но не почувствовал запаха. Нетревожно подумал: сулема абы мышьяк... И бросил отравы в туес со штями, взболтал и закупорил крышкой...
Намедни Захарка, вроде бы случайно шатаясь на Скатертном переулке, повстречал прохожего человека с лицом стертым, невыразительным, голым, как куриная гузка. С первого взгляда решил: из немчин с Кукуя иль из фрыгов. Тот, озираясь, из рукава кафтана добыл крест и с расстановкою, каким-то жестяным языком выдавил, глядя на сторону: «Если выпьешь сразу, то сразу и сдохнешь. А если пить по уму, то с месяц протянешь...»
И ушел.
И карла так понял, что час грянул, дьявол слугу своего призвал из долгой гулящей и требует новой услуги. Поначалу карла испугался неведомо чего, обробел крохотным своим тельцем, изумленно оглядывая узкий прогал, уставленный высокими заборами. Над дворами подымался ветхий печной дым, едва прободая низкое мглистое небо. Ставни у домов захлопнуты, ни одной живой души для взгляда, но сама зажатая изобками улица, покрытая снежной переновою, таила в себе угрюмую настороженность. Пустынность проезда тут же и успокоила, и скоро сердце карлы затрепетало в таком праздничном восторге, что Захарка испугался, как бы оно не поскочило из груди прежде времен...
Захарка посунул голову в кожаный засаленный гайтан, зачем-то плюнув на крест-мощевик, и не спрятал его, а нарошно прираспахнул голубую котыгу, обнажил узкую птичью грудку. Глянул в пристенное зеркальце, пригладил жесткий седатый бобрик волос, прищипнул тонкие брови и ниточку жидких усишек, до боли прикусил кожу на кулаке и постучал в дверь спальни молодого хозяина...
– Живой еще абы заколенутый? – спросил с порога с веселым вызовом.
– Тебя за смертью только посылать...
Захарка налил из бурака в кубок кислого питья и, пристально глядя на страдающего хозяина, отпил пару глотков, как делывал прежде. Лицо карлы перекосилось отвращением.
– Ой, не терпит желудок прокислого. Будто огнем припекает.
– Злодей... Отхлебнул и хватит. Из моей посуды больше не пей. Боюся я тебя, – сказал Иван Глебович вроде бы в шутку, присмотревшись к бледному как полотно шуту. – Может, ты каженик иль болен сладострастной болезнью. Ишь, взял за обычай, – уже недовольно, необычно строго окоротил Захарку хозяин, почувствовав к назойливому шуту внезапное раздражение. Густая мгла легла в подглазья. – Выплесни и больше не смей, слышь!
Иван Глебович приподнялся на подушках.
Захарка готовно выплеснул остатки в ночной горшок, налил нового питья. Иван Глебович опустошил посудину и на какое-то мгновение замер, запрокинув лицо и призамгнувши медовые глаза. Потом глухо попросил:
– Плесни ишо, дьявол. Уф, кажись, отлегло... Это всё ты, баламут, худо меня веселишь. Пожалуй, погоню тебя прочь со двора.
Опорожнил и второй кубок.
Подозвал шута.
– Что-то не видал у тебя прежде, – показал пальцем на крест-мощевик Карла с улыбкою взошел на прикроватную приступку, как на лобное место, головою едва пророс над пуховой высокой взбитой периною, в глубинах которой маялся молодой барин. Иван Глебович перехватил крест в свою ладонь, наклонился и неожиданно поцеловал. Карла вздрогнул, переменился с лица, стал серый, как древняя церковная фреска; казалось, сейчас со щек осыплется старая опока.
– От святых мест гостинец, от гроба Господня, от Ерасалима угоднички принесли. А маменька, как помирать, мне завещала. Столько и памяти... Просто тебе на глаза прежде не пался, Иван Глебович.
Карла поймал губами руку хозяина, душистую, с атласной кожей, еще не загрубевшей от походов и ратей.
– Ну, прости... Думал, что нехристь. Не с сердца ж на тебя взъелся. Сам видишь, каков, – повинился Иван Глебович, чувствуя непонятную тревогу и смущение, и легкое отвращение, и утробную изжогу. С облегчением, скоро устав сидеть, откинулся в крахмальные наволоки. Его тонкое побледневшее лицо в смоляной волне разметавшихся по подушке тяжелых волос казалось врезанным в тяжелую раму, тесанную из аспидного мрачного камня.
Иван Глебович снова попросил питья. Жгло нутро. Берестяный туес стоял посередке спальни, притягивал взгляд прохладной глубиной.
– Может, хмель-от медком вишенным осадим? – перебил его желание карла. – Не заради пьянства, но здоровья для. Промочим кишочки, и гонца гнать не надо. С ночи осталось...
Иван Глебович не успел остановить. Захарка из капового ковша цветной наливкою наполнил чарки, лихо взбежал на прикроватную колоду и из своей руки прислонил посудину с медом к губам хозяина; из второй же, торопясь, опрокинул питье в себя, остатки выжал на макушку.
Иван Глебович цедил чару с расстановкою, и Захарка, привстав на цыпочки, с каким-то жадным пристрастием наблюдал за его ртом, осыпанным курчавой бородою. Потом, опомнясь, спрятался за постелю, выкрикнул оттуда:
– Барин, слышь, барин? Хочешь, загадку загану?.. Сидит, как клоп, а поет, как поп...
– Без обид?..
– Какие тут обиды...
Захарка уже верно знал, что скажет Иван Глебович.
– Будто смахивает на тебя. Сидишь, как клоп... А-а, малой, вот и посмурнел. Вот и губу надул. Обидчив ты больно, Захарка. Дуешься, как чирей на ляжке. Не в твоей бы службе обижаться, не по чину нос задирать. Лучше бы веселил молодого хозяина.
– А вот и нет... Кузнечик поет, кузнечик-молодечек, скок-поскок под бабий бок. Под титьку завалюся, никого не бою-ся. Тьфу на меня, вскружило душное место. Я было нырнул однове в сатанин омут, дак едва после выполз. Прямо не за что ухватиться. Топко, да моховито, да б... то. Эх, Ванюш-ка-а, сынок! Срамно то дело, куний мех, не бери на душу грех. Невинным-то помрешь, дак дольше не сгниешь.
Спохватился Захарка, прикусил язык, убежал в чулан, там срядился в колпак с бубенцами, в зипун пестрый из покромок, да в шальвары из лоскутьев, сшитых нараскосяк, унизанные стеклярусом; выделывая ногами кренделя, вылетел на середину опочивальни, вскричал:
– Привалял я хрюшку, да выросла свинья. Сударушки-ладушки, пышные оладушки.
– Что-то тебя к одному потягивает. Может, к жене отпустить в гулящую? Примет-нет?
– Хочешь, засватаю самого лучшего звания в стайке у соседа-барина? – скоморошничал Захарка, делая вид, что не расслышал Ивана Глебовича. И загнусавил, кривляясь, по ходу выкраивая завиральную побаску:
Как милашке промеж ног,
Эх, да заскочил бараний рог!
Ох, как больно, ой, как сладко
Помакать подливы с ладки,
Распечатать кулебяку,
Заголить подол на с...
Ладушки-ладушки,
Где были? У б... ки.
Девицы-любодеицы,
Что в том доме творится,
Что в чулане деется ?
То милашка крутится,
То постеля вертится...
Ох да ох, мох на мох,
Покатался-повалялся,
А к утру барашек сдох...
— Хватит! Надоел ты мне, пустомеля! Не язык – отхожее место. Поди вон! – вдруг вспыхнул Иван Глебович, очнулся от наваждения. – Зови дворецкого... Нет-нет, станет докучать и корить. И прав! Экий я скотина. Петруху кричи да дядьку постельного. Вели одевать.