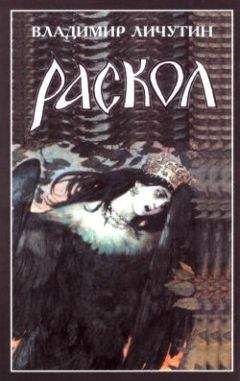Клусничал старец, гугнил, пузыря пену на губах, царапал десна черствой горбушкою языка, обсасывая с десен свою кровь, осыпал гостя словами, как древесной пахучей стружкою, и попутно ладил еству на столик подле оконца, шаркал своешитыми кожаными отопками, пригорбив спину, весь какой-то покато-округлый, как чувал с мукою, но в этом плохо разборчивом блаженном мычании уловлял Аввакум сострадание к себе и от этой жалости и бежал прочь в гордыне, но и алкал ее, как жаждет путник в жаркой пустыне глотка воды, кишащей тварями.
– Мы тебя любим, батько, и жалеем. Иль не чуешь? За нас ты мучишься, грешных, за нас страждешь, милостивщик. Но ты обопрись на нас, не гони, а мы, убогонькие, слепенькие, уцепимся за твой подол, как малые детки за сиську, и так побредем вместях до конца. Ты нам – зрячий посох. И ревем, и тужим, но тянемся следом, свет наш. И то ладно, и то слава Богу, что руку твою чуем, и сердце твое слышим, и правду твою разумеем. Не дашь пропасть? И то-о... И ежли когда и наорем друг на дружку, дак всё промеж своима. А им-то, христовеньким, кто без вожатая, кто сам по себе кинут, – так ты им помилостивь. Вот ведь и апостолы святые ино блудили меж трех сосен, и от холодного блескучего огня слепли, посчитав его за полдневное солнце, и пустыми словами, как серою, закладывали уши, чтобы не слышать истины, и с повинною припадали ко князьям мира сего, целуя ноги, дак и что? Разве вовсе пропащие стали?.. Образумились и помилованы, и прощены были Христом. Не тужи, братец, не кручинься!
– А я и не тужу! С чего ты взял, – снова взревновал Аввакум.
– И с детками твоими такочки станет. Опамятуются, ухватятся за твою опояску, да и побегут следом.
Епифаний засмеялся, и бабье широкое лицо, побитое морщинами, собралось в кренделек.
– Хотел пожалиться тебе, а вот смолчу, – закуражился Аввакум, уже за что-то пообидясь на старца.
– А ты не смолчи...
– Нет, не скажу...
Епифаний, все так же лучась лицом, приобнял протопопа за костистые прямые плечи, твердые, как лиственичное корье, попробовал шутейно принагнуть тугую выю, с тонкой косицей жидких волос, – и не смог, отступился. Поцеловал в клок бороды, пахнущей рыбою и дымом, прогугнил:
– Не хошь разделить трапезы с калекою, дак и ступай. Там тебя сынок бешаный ждет...
Аввакум пошел из бугра, а инок все так же что-то говорил вослед, уже сам с собою, частил взахлеб, и речь его текла, как слезная молитва, обволакивая протопопа в невесомый прозрачный куколь. Знать, обрадовался Епифаний, что Господь ему вдругорядь даровал язык, и сейчас пробовал его всяко, поновлял ладаном и елеем своей восковой души.
Дождь на воле сник, небо разредилось, проглянуло в иордань незакатное майское солнце. Стоячие бревна ограды, врытые в песок, блестели, как спины только что отловленных печорских семог. За острожком кипела жизнь и поманывала к себе. И так тяжко было забираться обратно в мрачную засыпуху, живым ложиться в домок и накрываться гробовыми плахами, слыша на своей щеке дыхание бешаного.
Ну как тут не взмолиться уставшему сердцу, когда ты один на весь белый свет и стон твой, горестно исторгшийся из груди, никто не подслушает.
... Батюшко государь, за что неволишь и теснишь? Я ли тебя не люблю, благоверный? Я ль не пасу пред Христом твою смущенную душу? Опомнись, свет-Михайлович, гони подпазушных псов, отравителей земли русской. Ах, как крепки затворы на твоих ушесах, навешанные еретиками. И даже проломными пушками не сокрушить их, так прочно заклепали, собаки...
Кириллушка лежал на лавке, уставив опустелый взгляд на накат, и едва дышал. Аввакум приосмотрелся: в хиже всё на месте, бешаный не кудесил у печи, щаной горшок закрыт сковородой. Протопоп налил ушного в мису, растолкал соузника. Кириллушка был мрелый, белее чесночной головки, щеки нынче ввалились, присохли к деснам. Старик стариком, а не молодой парень лежал на лавке, и Аввакум невольно зажалел его. И подумал, что скоро бешаный умрет. Откуда пришло это знание, протопоп не ведал. И осердился на сожителя. Потянул на молитву, но бешаный слабо заупирался, заплакал: «Матушка-татушка, я к черту угодил. Матушка-татушка, он из меня душу вынял и сунул заместо проклятую глиняную просвирку. Тьфу-тьфу на тебя, дьявол!»
Кириллушка заплевался, глянул гневно вроде бы, но творожистые скисшие глаза едва пробудились; уже откочевала из них жизнь.
Аввакум стегнул болезного четками, но без злобы, окрестил, насильно раздвинул рот, просунул ложку с ушным. Кириллушка выплюнул хлебово на стол, а деревянную чашу кинул под порог.
Столько и поели...
Ой, как захотелось тут же перепоясать дурака по бокам, чтобы можжевеловый батог лопнул о ребра, пустить возгри из носа и руду из окаянной пасти, изрыгающей хулу на Спасителя...
Страдник, опомнись в несчастную минуту и помилуй болезного! «Где ты сыскал вины, окаянный», – услышал Аввакум окрик инока Епифания, словно бы тот неотлучно дозорил за плечом, очнулся живо и, может, впервые после казни заплакал навзрыд. Вся мгла, что скопилась в груди от дурных вестей, та жесточь и желчь, что истравливали кажинный день, те непотребные мысли, что невольно копились в тюремных теснотах, скоро вымылись со слезами, и душа протопопа стала, как земля-именинница после вешнего, давножданного дождя, умытая и чистая.
А успокоясь, помазал Аввакум бесноватого маслицем и уложил на лавку.
... Правда груба, да Богу люба.
Слыхали-нет, подпазушные псы, что своими клеветами и всяческими неправдами мостите дорогу прямо в ад.
... До десятого часа ночи ратились в крестовой полатке Чудова монастыря с Павлом-митрополитом и Якимом-архимаритом. И лишь когда развиднелось на окнах, когда огняное с чернью солнце встало в Замоскворечье и мазнуло золотою кистью непоклонную голову Ивана Великого, тут как бы очнулись спорщики с недоумением и внезапным стыдом, расплевались и, не глядя друг на друга, разбежались по моленным углам, оставив боярыню стрельцам.
А те, уже не уламывая, лишь чугунея заспанными лицами, кинули Федосью Прокопьевну на грубую посконную ряднину и потащили Кремлем и Китай-городом на Воскресенский мост, а оттуда – на Моховую, на боярский двор. Морозова возлежала на сукне, подперев голову рукою, вся облитая сверху небесной синью и морозной стылой пылью, с закуржавленными седыми волосами, выбившимися из-под черного монашьего плата, повязанного вроспуск, и как бы пропускала, процеживала сквозь вишенный, по-птичьи изумленный взгляд череду богомольников, спешащих на службу, и бойких торговцев снедью, и лотошников со жбанами горячего сбитня и кренделями, и боярские колымаги, окруженные челядью с батогами, и княжьи кареты в зеркалах на тонких дутых колесах.
Москва, гулящая, вспененная предзимними заботами, и праздная, лишенная всяких страстей, зазывно цветная и монашьи насупленная, обтекала Морозову, как бурливая река, наклонялась над нею, походя вглядывалась из-за дюжих стрелецких плеч, как на покоенку, ино осклабливалась, узнавая, и дразнила, пугалась жалостно, и проклинала строптивую; порою совсем рядом выныривало детское, набитое морозцем, но еще припорошенное сном розовое личико и простодушно вглядывалось голубиным дымчато-сизым глазом, запечатлевая боярыню навсегда...
Ястреб-крагуй кружил над Пожаром, снизу, от подкованных сапожонок, пырскали ошметья уже разбитого снега прямо на лицо, но боярыня не отворачивалась от жидких лепех, ведь и они были милостью страстного пути.
... Эвон как захотелось Павлу-митрополиту (что не знает даже того, как слово Бог написать) приклонить под ступню государеву боярыню Морозову; пробовал и лестию утишить, и угрозами устрашить, и богатыми посулами ущедрить. Де, очнись, непутевая страдница, доколь тебе блудить, когда вся Русь одной дорогою бредет; ежли государя не боишься и Спасителя отринула, так хоть одинакому сыну Ивану Глебовичу не рой под ступнею кротовьих нор; ино запнется невзначай и на пустом месте испроломит голову, – только и слыхали сердешного.
А что ответить дурням, ежли правда небесная им дешевле горячей оладьи базарного блинщика?
Распахнули родные ворота, внесли боярыню в усадьбу, и только у красного крыльца своих хором Федосья замлело слезла с сукна и едва не упала, так качнуло на сторону. Сенная девка подскочила, чтобы поддержать госпожину, но стражник сурово пихнул ее в грудь, и она повалилась на тонкий, еще неживой снег, невольно задрав ноги в опорках и длинных шерстяных головках. Челядь невольно засмеялась и тут же расступилась в испуге. Подошел нарочный подьячий из патриаршьего приказа, сновавший меж дворов, зыкнул на господских. Все почтительно поклонились в пояс, содравши шапки, и дружно перекрестились щепотью.
... Ах, новый Арий! быстро же ты совлек бессловесное стадо во грех. Ну, бисовы дети, сейчас бы вас тросткой по шеям да шелепом по бокам, чтобы опомнились и вскричали: прости, матка! Велеть бы: де, сотский, а ну, живо на конюшню б... деток, раскатать безумных на кобыле, чтобы вошли в память. Я ли им не была матерью, Гос-по-ди!..