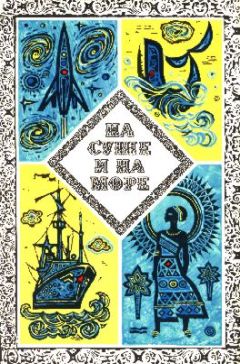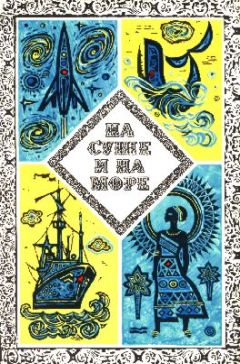До последнего момента шестиколенный Авель не был уверен в успехе своей иезуитской задумки.
И вот началось.
Хладнокровный Тимур сорвал зубами колпачок с бутылки спирта, прицельно послал его губами и языком в оробелого палача.
«Ну, ты, деревенщина!..»
Медленно, со сладострастием отпил треть содержимого бутылки. Обмыл лезвие ножовки. Смочил спиртом место, куда вскоре должны вонзиться зубчики полотна.
Замерли приговорённые… сжали зубы… напружинили челюсти… кто-то высморкался и высыпал полгорсти матерков…
От скрежета кости и слесарной ножовки у Пиоттуха стали подбеливаться крупные зрачки.
На стальное полотно, на сосновую плаху брызнула яркая кровь.
Тимур отпиливал кисть не с гримасой боли — с натянутой театральной улыбкой. Он чуял: улыбки свободы не будет, так пусть перед смертью земляки-сибиряки увидят не труса, не сломленного казнью бородача.
Многие смертники отводили взор от самоистязания. Некоторые гипнотически вперились в смельчака, не затыкали уши.
Правая рука без кисти оказалась на свободе.
Смочив струйкой спирта срез, допив остаток, Тимур шарахнул бутылку о равнодушные тиски.
«Первый акт пьесы закончен. Второй будет?»
Захлебнулся несвязной речью Авель, знавший всё о своём роде до шестого колена. Надеялся на трусость молодого кузнеца. Не удалось переломить через колено волю к свободе.
Конвоирам и надзирателям с трудом удалось усмирить гвалт зонников. Резиновые дубинки гуляли даже по головам. Пиоттух опасался бунта.
Восторженно смотрели на Тимура. Кто-то проорал «урра!» В толпе плескались аплодисменты…
Снайпер и разведчик Воробьёв усомнился:
— Может быть, это выдумка ревнивой бабёнки?
— Слухи до меня и раньше доходили… с другими подробностями… будто озверелый Пиоттух столкнул моего Тимура с настила со словами: «Контры, поссыте на рану!» Герой ответил: «Постой! Кисть заберу… моя всё же…».
Закончив уборку палаты, техничка сунула под подушку ополовиненную фляжку с крепачом.
— Допьёшь… Тимура помянешь… В память о нём пью спирт из горлышка… он нас роднит.
Его расстреляли?
— Господь ведает. Раз до сих пор не объявился — значит, был в яме… сейчас в Оби… Натан, выпишут — заходи… родня ведь — дальняя…
В приоткрытую дверь палаты прошмыгнул кот, огляделся и в три прыжка очутился на постели больного.
— Дымок! Родной!
Сердечник старался не дышать перегаром на мяукающего умника.
Вошла озабоченная Октябрина.
— Вот ты где, шельмец! Ищу по всей больнице, а он — разведчик сам палату нашёл… Ну, здравствуй, ветеран!
— Привет тебе, Красный Октябрь, — подделываясь под тон Васьки-Губошлёпа, ответил больной.
— Сегодня тебя выпишут. Градусные лекарства можно и дома принимать.
— Рад-радёшенек от такого известия.
— Сосед Васька ждёт не дождётся — такого собутыльника лишился.
…Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда…
— Стишки тут сочиняешь — значит, здоров.
Не хотелось объяснять хозяйке с улицы Железного Феликса, чьи это строки. Сегодня после общения с Прасковьей на него накатилось тёплой волной ребячество… Захотелось любви, озорства. Вымываемые из яра кости гремели под струями в другой эпохе, не в нашем существовании. После войны в земной толще разлагаются миллионы трупов… лежит для острастки всеобщей совести неизвестный солдат… молчит он… молчит Кремлёвская стена… только Вечный Огонь ропщет за всех убиенных…
Историк попросил у мужчины в чёрном короткополом плаще бинокль, навёл на катер связи. В окуляре мелькнул офицер… рядом вертелась женщина. похожая на Полину… Не может быть — она… копёшка волос… просторный голубоватый жакет.
Когда поднималась от речного вокзала по некрутому взвозу, подошёл учёный.
— С приездом!
— Серж! Да ты шпионишь за мной.
— Нет. Вместе со всем честным народом наблюдал сплав трупов…
— Поехала, чтобы узнать подробности, тебе передать.
— Какая трогательная забота.
— Не ревнуй меня. Чиста…
— Ты знаешь аббревиатуру СМЕРШ?
— Смерть шпионам — чекисты хреновину придумали.
— Сейчас СМЕРШ расшифровывается так: смерть шлюхам.
— Фи! Грубиян с учёной степенью… Убей меня, Отелло, задуши свою Дездемону.
— Полина-Полина!..
— Не суди, да не судим будешь… Что я попёрлась с тобой на Север? — повела наступление пышноволосая леди. — Ты впадаешь в старческий маразм, к чужим штанам ревнуешь… По природе я обыкновенная курица, а петухи пошли квёлые…
Упрёки в постельной слабости были высоким коньком неудовлетворённой дамы. Она не признавалась себе даже мысленно, что поезд её страсти давно пронёсся мимо главной станции жизни. Не те годы. Не та плоть. Не те зарничные чувства, пылающие в молодости восходящими в небеса огнями.
Злые, насупленные вернулись в гостиницу.
Оскорбляло, унижало историка открытое предательство человека, к которому он питал когда-то искренние, объёмные чувства. Пробивался пусть не яркий, но солнечный свет любви… Наплывали тучи окончательного разрыва. Не было очистительного ветра разогнать их.
— Полина Лавинская, какими увиденными деталями можете поделиться с историком Гореловым?
— Фи! Какая официальщина… Зря поехала. Такого кошмара насмотрелась… Приставал… домогался офицеришка… — Давно прожжённая страстью женщина привыкла обезоруживать любовника едкой правдой. Она не впервой применяла беспроигрышную оборону. — «Но я другому отдана. И буду век ему верна…».
Классическое враньё немного успокоило учёного.
— Детали, только детали интересуют. Хорошо разглядела с катера место размыва яра?
— Следы преступления видны, как на ладони… Жуткая картина! Такого кощунства матушка природа не видела… да и земляне тоже… Струи из-под винтов месили кости с землёй… поодаль от берега бугрилась желтоватая пена… Трупы отлавливали баграми. Флотилия лодок растянулась на версту. Одному трупу удалось отбиться от стада, он подплывал к нашему катеру… борода сохранила черноту, волосы на голове полуоблезли… мертвец плыл на спине… на шее болтался клочок косоворотки… бросился в глаза крестик… лучи солнца высветили его и… задумчивый лик христианина… не ошиблась — именно задумчивый… Ой, не могу… труп подплыл к катеру связи, струи перевернули его, притопили слегка. На поверхности показались руки… одна была без кисти… Ни рулевой, ни офицер не видели мольбы мертвеца: он будто просился на катер, умолял нас полной и укороченной рукой… Зажала зубы… промолчала… проводила взглядом… подумала: пусть хоть этот не будет утоплен, поплывёт свободно по Оби…
Молчали долго, напряжённо.
— За такую улику массового затопления можно простить тебе часть грехов.
— Чиста — стёклышко… Серж, пойдём, помянем души расстрелянных и утопленных…
На крыльце Васька-Губошлёп чистил наждачной шкуркой дымокурный череп. Сошла не вся чернота: вместе с нагаром сыпалась мелкая костная мука.
— Дурак! Спрячь скорее — больной возвращается.
— Красный Октябрь, задержи его на минутку на улице.
— Уматывай огородом… и дух свой винный уноси…
Не ожидала Октябрина встретить на своём крыльце вездесущего соседа. Сдула со ступеньки тёмную пыльцу. Подошёл Дымок, принюхался к воздуху и чихнул.
Гвардеец шагнул за ворота, развёл руками.
— Куда меня привели?
— Гостенёк, моя изба, мой двор.
— Чья изба? Варвары?
— Октябрины… Красного Октября…
От больницы шли молча. Долгое молчание сердечника настораживало старушку. На вопросы он не отвечал. Тупо уставясь на дорогу, еле волочил ногами.
— Вот те раз! Вылечили, называется. В палате стихи шпарил. Сейчас памяти лишился. Ветеран, имя-то своё помнишь?
— Наган… Наганыч…
— Правильно — Натан Натаныч, — не расслышав оговорку, подтвердила хозяйка.
У ног сердечника Дымок выплясывал восьмёрки. Тревожное мяуканье насторожило старушку.
— Всё-то ты чуешь… всё-то ты знаешь… Даже временный провал памяти у фронтовика определил твой кошачий мозг… Пройдёт, Дымушка, пройдёт…
Сев на крыльцо, снайпер пристально всмотрелся в сучок на плахе. Что-то напомнило это округлое, гладкое пятно. Попытался пропустить палец сквозь смолевую преграду — ноготь царапнул поверхность и соскользнул. Он с ожесточением тыкал пальцем, как стволом пистолета, в почти костяной кружок и завыл от бессилия и неудачи.
— Череп! Непростреленный череп… не моя вина… мои пули достигали цели.
— Успокойся, родной… пойдём до кровати…
«Скорую» Октябрина не стала вызывать. Надеялась: пройдёт беспамятство, наваждение.