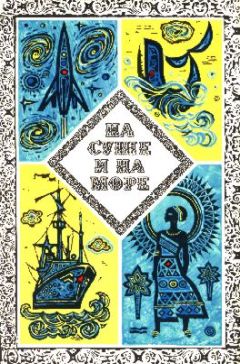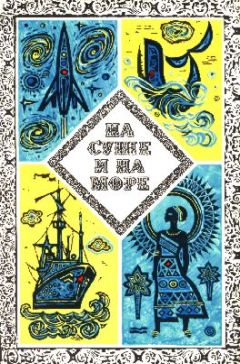По улице Железного Феликса шёл вразвалку Губошлёп, базлал:
Зачем кулачить мужика?
Пашет, сеет хлебушко.
Раскулачить бы ЦК —
Посветлеет небушко…
Звучно высморкался, плюнул в сторону обрушенного яра:
— …Отольются волку овечьи слёзы… Чё вы, окна, вылупились? Слушайте, слушайте Васькину правду-матку…
За ворота выскочила Октябрина, крикнула:
— Вася, сюда!
— Завсегда готов, Красный Октябрь, выполнить твои поручения.
— Ты чё горланишь против власти?!
— Частушки… народные… не боись — мы их давно поём.
— Сейчас чинов разных понаехало — заберут.
— Пусть забирают. Ваське тюряга не приелась… там — зона, тут зона…
— У меня, Васенька, беда — вояку-то нашего привела из больницы — он памяти лишился. Избу не узнаёт, меня Варварой называет…
— Дело поправимое, — заверил Губошлёп, — вылечу.
— Каким способом?
Вот таким.
Подойдя к воротному столбу, жваркнул по нему ладошкой.
— С ума сошёл…
— Зато воин в ум войдёт… У меня кореш был: запился, ум набекрень… ерша от карася перестал отличать. Звезданул ему по затылку — извилины кое-какие выправил и порядок… Красный Октябрь, у нас телевизоры, холодильники от встряски оживают. Мозги тем более… Как войдём — ты сразу время останови: хайластые у тебя ходики. Операцию буду проводить в полной тишине. Нальёшь потом?
— Не вопрос…
— Тогда пойдём хирургией заниматься.
— Ой, соседушка, боязно мне.
— Не бзди, кума — лечение проверенное.
Заговорщиков Натан Натаныч встретил чистым, осмысленным взглядом.
Узнал Василия, Октябрину, прыгнувшего на постель Дымка.
— Словно очнулся… недавно была палата, сейчас знакомая комната. Ходики в чувство привели.
Васька осклабился:
— Фронтовичок, я тебя телепатически вылечил: испугался, небось, подзатыльника?
— Не понимаю.
— И не поймёшь… надо закончить академию народного хозяйства или на зоне попотеть. — Доставай заначку, Красный Октябрь! Будем выздоровление праздновать.
Напуганная хозяйка глядела подозрительно на гостя: сердце находилось в объятиях житейской тревоги.
Снайпер уловил чувство растерянности.
— Не беспокойтесь обо мне. На меня иногда что-то находит… лунатиком не был, но испытываю чувство полуотрешения, замутнённости сознания. Реальный мир перестаёт существовать… кто-то тянет в прошлое.
— Меня в него двумя арканами не затащишь, — Василий, словно заправский массажист, сильными пальцами разминал ветерану шейные хрящи. — Прошлое — злое существо… молодыми да сопливыми мы творим в нём невесть что…
— Философ, шею не сломай больному.
— Он здоровее нас. На такую бычью шею не вдруг ярмо подберёшь.
— У меня, Василий, душа обессиленная…
— Знамо: настрадался на войне, повидал такого ада.
— На войне и на миру опоганенном…
Хозяйка сомневалась: выставлять-нет заначку… Оба во хмелю… Васька частушки непотребные горланит.
Телепат местного значения прочитал мысли Красного Октября:
— Ставь, ставь крем-соду.
— Частушки про власть орать не будешь?
— Про какую власть — на которую хочется кучу накласть? Такую ошпарю частушками.
Льётся кровь народная —
Наверно, беспородная.
Самодуры красные
Для страны опасные.
…Культ морды давно осудили…
Плачет русская земля —
Все злодейства из Кремля.
Знаем мы врагов народа.
И в Кремле не без урода.
Ветеран Великой Бойни вслушивался в песенный настрой. Сливались на лбу морщины… отблески далёкой муки проблескивали в прищуренных глазах. Разряд памяти не пробивался сквозь толщу годин.
Где-то в лабиринтах извилин отложился запретный текст частушек, но Воробьёв, утомлённый грузным временем жития, не мог припомнить точки отсчёта дней услышанного фольклора. Из мучительного состояния погружения в прошлое вывел Губошлёп:
— Их давно поют в Колпашино… не косись, Красный Октябрь, не пугайся красных… сейчас правят серо-буро-малиновые… Устроили гады вторую смерть землякам через утопление…
От самогонки сердечник отказался. Не хотелось ни водки, ни коньяка… опустился парной туман прозрения, окутал существо. То, что сулило погибель, было неприемлемо для снайпера и разведчика. Брать на мушку свою жизнь? Нет! Придётся выдержать последний бой за себя, за отпущенное время, оставленное Всевышним. Отдалить роковую черту… засеять душу новыми всхожими семенами…
На больничной койке гвардеец продолжал казнить себя: зачем потащился в Колпашино, где взбудоражил память, стал свидетелем нового падения власти: мир её изощрённой лжи ширился, калечил души. Правителям не помогут молитвы, Отче наш не воскресит испоганенной правды. «Не воскресит и мою душу, которую сатана покрыл несмываемым позором…».
Осматривая простое убранство почти деревенской избы, Натан Натаныч перевёл взгляд на разговорчивого Василия, пожирающего самогон. В этом шустряке бурлила энергия жизни… над башкой словно сиял нимб свободы.
— Болезный, чё приуныл? Подсаживайся. Опрокинем тоску… Если судьбу не смачивать водкой, напитками народными — до петли додумаешься. А так шарахнешь стаканеус — и всё чин чинарём… Давно говорю корешам: наша страна — стартовая площадка для алкашей…
— Для ракет тоже, — добавила Октябрина.
— Эээ, Красный Октябрь, на хрена нам светлый космос, если в головах тьма. Надо не Всевышнего в небесах вышаривать, а на земле бога искать. А божество земное — народ. Его нашла вульгарная партия да просмотрела за всей своей трепотнёй… Рабами были, рабами подохнем… Я в армии на политзанятиях мозги офицерам вправлял. Они страшатся солдатеусам матушку-правду представлять, а я ложь крушу ломиком… Посмотри, Красный Октябрь, какая ситуация с утопленниками. Они лежали в яру нашем под охраной двух улиц — Железного Феликса и Ульянова. Яр — на крови… Подсунули нарымчанам подарочек… Ох, не подарок нам власть, ох, не подарок…
— Сосед, я на тебя самогонки не напасусь.
— Красный Октябрь с улицы Железного Феликса, я тебе мешок сахара привезу, дрожжей куплю.
— Гони её, проклятую, сам.
— Терпежу нет. Начнёт змеевичок яд целебный сбрасывать — дегустацию устраиваю… После третьей пробы хорошее словечко дегустация уже не произнесу.
— Всё, Василий, заканчивай фестиваль.
— Не гони, кума. На хозработах пригожусь.
— Человеку отдохнуть надо…
— Отдохнём в тюрьме…
1Невинная Обь несла великие воды в бескрайние дали.
В сети рыбаков, на перетяги с самоловными крючками попадались трупы с пригрузом. Нарымчане их не выпутывали.
Кто с оторопью, кто со страхом осматривали диковинный улов, обрезали сети, лишались многих остро отточенных крючков.
Труп на плаву занесло в густые тальники. Шапка пены прикрыла остаток косоворотки, бессмертный крестик на прочной шёлковой нитке.
Бурение на кости прекратилось: бур перестал натыкаться на останки.
Винты поработали основательно, остолбенелый яр затих в скорбном уединении.
Время в Колпашино раскололось на две глыбины. Одна, опозоренная чекистами в конце тридцатых, была притоплена по макушку, другая, тоже опозоренная органами новой формации, вздыбилась яром, продавленным вглубь городской территории.
Приречные улицы Железного Феликса и Ульянова перекрещивались, будто неумолимый век поставил жирный крест на кровавом событии эпохи.
Без гадалок горожане знали: неподкупная Обь доберётся до имён ярых хозяев красной истории. Дело оставалось за временем и недюжинной силой воды.
В секретные папки легли отчёты об успешно проведённой операции по сокрытию следов давнего преступления.
Новые органы считали: недавнее преступление забудется, зарастёт травой забвения… Поболтает годик-другой беспамятный народишко, заботы о молоке и хлебе насущном вытеснят рассусолы о скопище трупов, спрятанных воровски в матёрый Колпашинский яр.
С мнением народа давно перестали считаться. На фоне грандиозных дел, космических запусков, вскрытия целины, покорения рек невесомые мнения не представляли реальных угроз Отечеству. И Обь покорилась: приняла эстафету яра с молчаливой покорностью.
Раздумывал историк об этой вакханалии в тишине гостиничного номера, даже не удивляясь предприимчивости твердолобых генсеков. Пропаганда отбивала морзянку героическим ключом.
Учёный успел разувериться в кривой линии партии, в театре абсурда, где народу отводилась зачуханная галёрка.
Знал Горелов: неугодных запихивают в психушки, почти на каждого интеллигента в недрах КГБ хранятся тайнички дел — со всеми проколами, прегрешениями, выпадами против правящего сообщества партийцев.