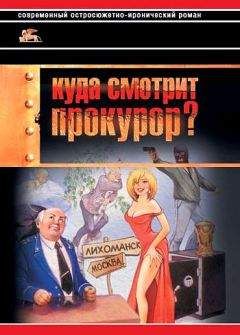Валицкий торопливо пробежал Указ до его последней строчки, где говорилось, что мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.
«…по 1918 год включительно», — снова перечитал Валицкий последнюю строку Указа. И почувствовал необычную дрожь в коленях. Потом сказал себе: «Конечно, Толя — военнообязанный. Но он имеет отсрочку до окончания института; ведь ничего не сказано о том, что отсрочки отменяются…»
Валицкий почувствовал легкое прикосновение к своему плечу и услышал голос: «Посторонитесь-ка, гражданин!»
Он сделал шаг в сторону.
Женщина с ведром в одной руке и со свернутыми бумажными рулонами под мышкой другой руки встала на его место.
Она опустила на тротуар ведро, вынула из него кисть и стала мазать клеем по стене рядом с Указом Верховного Совета.
Потом взяла один из рулонов и, обращаясь к Валицкому, сказала:
— А ну, гражданин, подержите!
Тот сразу понял, что от него требовалось. Вдвоем они раскрутили рулон, оказавшийся длинным красочным плакатом, и прижали его к стене. Женщина еще раз провела кистью по лицевой стороне плаката, сосредоточенно посмотрела на него, взяла ведро, собрала оставшиеся рулоны и пошла дальше по тротуару.
Валицкий вгляделся в плакат. На нем был изображен матрос в тельняшке, в бескозырке с развевающимися лентами и с гранатой в поднятой руке. Под изображением большими красными буквами было написано: «За Родину!»
Чисто автоматически Федор Васильевич отметил недостатки плаката — непропорционально большая рука матроса и не вполне естественный замах.
Он пошел вдоль тротуара, читая расклеенные сводки вчерашних боев — утренние и вечерние. Подобно многим старым людям, Валицкий обладал хорошей памятью на события далекого прошлого и теперь вспомнил военные сводки, печатавшиеся в начале первой мировой войны.
Нет, в них не упоминались те населенные пункты и направления, которые фигурировали в сводках сегодняшних.
Судя по всему, война шла сегодня на русской, а не на немецкой земле.
И вот это-то обстоятельство вызвало в Валицком пока еще целиком не осознанный, чисто эмоциональный прилив чувства горечи, оскорбленного достоинства и страстного протеста. Как это может быть? Кто позволил? Почему?! Ведь получается, что немцы находятся на нашей земле, хотя идут уже вторые сутки войны. На русской земле? Но это же… это же черт знает что такое!
И тут же с привычной неприязнью подумал о том, что, наверное, нашими войсками командуют такие же некомпетентные люди, как и те, что в течение многих лет пренебрегали умом, знаниями и опытом академика Валицкого.
Эта мысль доставила ему хотя и горькое, но все же некоторое удовлетворение.
Федор Васильевич пошел домой.
Мария Антоновна бросилась к мужу, как только тот, щелкнув ключом, открыл дверь и появился на пороге. Она закидала его вопросами: правда ли, что ночью был налет — ведь она заснула на кушетке и ничего не слышала; есть ли разрушения в городе и не звонил ли ночью Толя?
Валицкий, стараясь сохранять спокойствие, ответил, что никакого налета не было — просто объявили учебную тревогу, а о налете пишут и говорят лишь для того, чтобы сохранить бдительность, что же касается Анатолия, то он не звонил, потому что наверняка уже выехал в Ленинград и будет дома если не сегодня, то завтра.
Потом Федор Васильевич сел за накрытый стол, нехотя поел и отправился в свой кабинет. Телефон молчал.
Вечером, едва сдерживая растущую обиду, он позвонил Осьминину, готовясь высказать ему все, что о нем думает. Но оказалось, что Андрея Григорьевича не было дома.
Его внучка Леночка ответила, что дедушка не возвращался с раннего утра и сказал по телефону, чтобы его не ждали ни к обеду, ни к ужину.
Валицкий снова позвонил своему другу, на этот раз на работу, в больницу. Осьминин взял трубку не сразу, прошло несколько минут, пока его разыскали, и Федор Васильевич услышал знакомый голос.
— Ты что же, не мог позвонить? — Как обычно, без всяких приветствий спросил Валицкий.
— Занят, Федор, очень занят! — послышался торопливый ответ. — Сам понимаешь…
Эти последние слова Осьминина почему-то еще более усилили раздражение Валицкого. Он едко сказал:
— Ну конечно, как же мне не понять! Может быть, тебя все-таки произвели в генералы? Готовишься вести в бой войска?
Наступила короткая пауза. Потом — на этот раз точно издалека — снова раздался голос Осьминина:
— Занят, Федор, очень занят. Люди ждут, извини…
Валицкий еще несколько секунд сжимал трубку, не кладя ее на рычаг. Слова Осьминина прозвучали как вызов, как оскорбление: он отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. Что он хотел такое сказать, повторив два раза, что занят? Снова подчеркнуть свое отличие от него, Валицкого? Свою причастность к тому, что происходит? Что без него не могут обойтись?
Федор Васильевич подошел к книжному шкафу, вынул наугад одну из книг — это оказался «Трактат об архитектуре» Андреа Палладио — и стал перелистывать страницы, пытаясь успокоиться. Но успокоиться ему не удавалось. В ушах его все еще звучал голос Осьминина, эта последняя его фраза: «Занят, очень занят, люди ждут…»
Федор Васильевич раздраженно захлопнул книгу, сунул ее обратно в шкаф и в это время услышал робкий стук в дверь. Он удивленно обернулся. Ни жене, ни сыну, ни домработнице не разрешалось нарушать его уединение в эти часы.
Не отвечая на стук, Валицкий подошел к двери, рывком распахнул ее и увидел тетю Настю.
— Что тебе? — недовольно спросил он.
— Спрашивают вас, Федор Васильевич, — робко, вполголоса, ответила она.
— Кто «спрашивают»? — подчеркнуто громко переспросил Валицкий.
— Не знаю. Гражданин какой-то. Королев, говорит, фамилия.
— Королев? — недоуменно переспросил Валицкий. — Откуда он?
— Не знаю, Федор Васильевич, не знаю откуда, — затараторила тетя Настя, — с улицы пришел, в парадную позвонил, я и открыла… Дело, говорит, важное…
— Ну, хватит, — раздраженно прервал ее Валицкий. — Проси.
Он отошел к письменному столу, повернулся и стал выжидающе смотреть на дверь.
Через мгновение на пороге появился незнакомый человек. Валицкий с недоумением оглядел этого высокого, пожалуй выше, чем он сам, пожилого мужчину, его потертый старомодный пиджак, лацканы которого слегка отгибались, белесо-синюю, должно быть бесконечное число раз стиранную, рубаху, вязаный, свившийся жгутом галстук, убедился, что никогда ранее этого старика не встречал, и сухо спросил:
— Чем могу?..
— Моя фамилия — Королев, — сказал незнакомый человек, — а зовут Иван Максимович.
Произнеся это, он умолк, точно полагая, что его фамилия, имя и отчество должны были что-то говорить Валицкому.
Федор Васильевич передернул плечами и повторил:
— Итак, чем могу?..
Королев равнодушным взором окинул комнату, на пороге которой стоял, — тяжелые бархатные портьеры, массивную бронзовую люстру, кожаные кресла, книжные шкафы — и снова устремил свой взгляд на неподвижно стоящего у письменного стола замкнутого, высокомерного Валицкого.
— Я… насчет дочки, — неожиданно глухим голосом произнес Королев.
— Простите, кого? — с недоумением переспросил Валицкий.
— Дочка моя… Вера… — повторил Королев.
— Но я… не имею чести… — начал было Валицкий, но Королев неожиданно прервал его, на этот раз строго и холодно:
— При чем тут честь? Я думал, сын вам рассказывал…
Сперва Валицкий ничего не понял. Но уже в следующее мгновение он почувствовал, как загорелось его лицо. «Этого еще не хватало!» — подумал он со смешанным чувством тревоги и брезгливости. Неужели ему предстоит выслушать какую-то пошлую историю, в которую замешан его сын?! Да, да, конечно!
Как все это нелепо, глупо! Валицкого больше всего ранила мысль, что он узнает об этом именно теперь, в такое время!..
Прием, который ему оказали в управлении, торопливо-отчужденные слова Осьминина по телефону, а теперь еще и эта, несомненно пошлая, история — все сплелось в сознании Валицкого в один колючий клубок. Федор Васильевич чувствовал, что еще минута — и он будет не в силах совладать с собой. Ему хотелось накричать на этого все еще стоящего в дверях человека, весь облик которого так не гармонировал с царящей здесь атмосферой, прогнать его, крикнуть вслед, что ему ни до чего нет дела, что ни на какой шантаж он не поддастся, что Анатолий — совершеннолетний, и поэтому…
Но хотя Валицкий и был резким и заносчивым человеком, в критические моменты полученное им воспитание иногда брало верх. Так и теперь он подавил уже готовые сорваться с языка слова, судорожно проглотил слюну и сказал, делая неопределенный жест рукой:
— Прошу садиться…
К деревне они подъехали не по главной проселочной дороге, переходящей в единственную деревенскую улицу, а с тыла, по целине. Когда Жогин остановил лошадь у изгороди, из-за которой выглядывали высокие подсолнухи, Кравцов сказал: