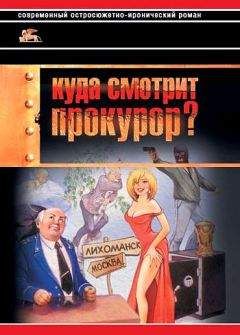Поэтому возбужденное, близкое к истерическому состояние жены раздражало Валицкого: он не видел для этого оснований.
Война представлялась ему как нечто далекое, неосязаемое, происходящее где-то «там» событие, к которому ни он, ни его «дом» не может и не будет иметь прямого отношения. Разумеется, мысль об Анатолии в связи с войной приходила и ему в голову. Однако Федор Васильевич был уверен, что сын его, как студент предпоследнего курса института, не будет призван в армию. В его подсознании все еще жило представление о войне, как о чем-то похожем на то, что происходило в 1914 году, когда не только в крупных городах, но и в каких-нибудь ста верстах от линии фронта жизнь протекала обычным, мирным путем. Мысль, что война может запустить свою страшную лапу сюда, в Питер, казалась Валицкому противоестественной.
Следовательно, Анатолию ничего не грозило. А раз так, то слезливые причитания жены не имели оправдания. Они лишь унижали достоинство Анатолия, как будто он малый ребенок, маменькин сынок. А все, что в действительности или в воображении Федора Васильевича унижало достоинство его самого или членов его семьи, «дома», вызывало в нем резкую, протестующую реакцию.
Менторски, педантично разъяснил Федор Васильевич жене, что Анатолий уехал не на Северный полюс, а в населенный пункт, что там наверняка имеется радио и, услышав о войне, он, разумеется, поспешит домой.
Однако Мария Антоновна не успокоилась — ее пугала, угнетала мысль, что сына могут послать на фронт, — и этого Федор Васильевич уже не мог ей простить. И хотя в душе был уверен, что в армию Анатолия не призовут, да и война эта наверняка кончится очень скорым разгромом немцев, он сердито сказал, что его сын не слюнтяй и не трус и в свои двадцать три года не будет держаться за юбку матери.
Это вызвало новый поток слез Марии Антоновны. Валицкий резко крикнул ей: «Прекрати!» — и ушел в свой кабинет.
Поздно вечером у Валицких неожиданно появился Андрей Григорьевич Осьминин. Он сказал, что заехал ненадолго, потому что через час в больнице, которой он заведовал, состоится экстренное общее собрание.
Валицкий молча посмотрел на своего мешковато одетого, лысого, страдающего одышкой друга и внезапно ощутил нечто похожее на угрызения совести оттого, что Осьминин, видимо, занят каким-то серьезным, неотложным делом, в то время как сам он сидит в своем кабинете, будто ничего не случилось.
И, как всегда в подобных случаях, Валицкий попытался прибегнуть к своей спасительной иронии, каждый раз забывая, что с Осьмининым это у него не получается.
— Ну, разумеется, без тебя дело не обойдется, — сказал Валицкий. — Кстати, тебе еще не присвоили генеральское звание?
— Я военврач второго ранга, — сухо сказал Осьминин. — А ты кто?
Валицкий пожал плечами и усмехнулся.
— Между прочим, мне исполнилось шестьдесят пять. И единственное ружье, которое имеется в этом доме, принадлежит Анатолию. Он играл с ним, когда ему было пять лет.
— Перестань паясничать, Федор, — сказал Осьминин. И после паузы добавил: — Впрочем, я тебя понимаю…
До Валицкого немедленно дошел снисходительно-обидный смысл этих последних слов. Но именно на этот раз ему захотелось сопротивляться. Он прямо и с вызовом посмотрел в глаза своего друга и громко сказал:
— Я честный человек, Андрей! И мне не в чем себя упрекнуть.
Наверное, Осьминину в этих словах послышалось не только оскорбленное самолюбие. Может быть, он почувствовал в них и горечь и боль. И ему стало жалко Валицкого. Он сказал мягко:
— Никто в этом не сомневается, Федор.
Некоторое время царило молчание, и первым его нарушил Осьминин.
— Лично я считаю, что все это быстро кончится, — сказал он, нарочито уходя от личной темы. — Говорят, что наши высадили большой десант где-то неподалеку от Берлина. Только пока это держится в секрете.
Однако Валицкий был слишком самолюбив, чтобы оценить великодушие Осьминина. Ухватившись было за протянутую ему руку, он тут же отстранил ее. Валицкий не мог примириться с тем, что Осьминин видел его в состоянии растерянности и унижения.
— От кого же секрет? — спросил он уже снова своим привычно-ироническим тоном. У него не было никаких оснований сомневаться в реальности такого десанта, более того, в душе ему страстно хотелось верить в него. И тем не менее, когда Осьминин пожал плечами, он снова еще настойчивее повторил свой вопрос: — От кого же секрет? От немцев или от нас? Полагаю, как в первом, так и во втором случаях в этом вряд ли есть смысл.
— Ну, конечно, ты великий стратег и тактик! — насмешливо заметил Осьминин. Он не смог сказать ничего другого, поскольку и впрямь не находил убедительных причин для сохранения подобной тайны, однако самоуверенность Валицкого сегодня особенно его коробила. Широкотелый, круглоголовый, лысый, он сидел в кресле и сердито хмурил белесые брови.
— Я не стратег и не тактик, — сказал Валицкий, довольный, что его сарказм, по-видимому, достиг цели, но больше уже не рискуя выводить Осьминина из терпения, — просто я оперирую логикой здравого смысла.
— Немцев разобьют за несколько дней, — громко и решительно сказал Осьминин.
— Очевидно, — согласился Валицкий. — Надеюсь, что воевать-то мы умеем. Во всяком случае, лучше, чем строить дома.
Этого ему не следовало говорить. По крайней мере сегодня. Осьминин встал.
— Вот что, — сказал он и, пожалуй, впервые за долгие годы знакомства с Валицким посмотрел на него с явной неприязнью, — мне не нравится твой тон. Сидеть в кресле и с профессорским видом рассуждать, когда на фронте уже наверняка гибнут люди…
— Но что же мне остается делать в мои шестьдесят пять лет? — усмехнулся Валицкий. — Для рядового я староват, в генералы меня не произведут, как, впрочем, и тебя, я не медик, латать животы не умею, — следовательно, единственное, что мне остается, — это именно рассуждать! Не понимаю, чего ты раскипятился? Как я сказал, мы, очевидно, победим…
— Очевидно?!
— Боже мой, не разыгрывай из себя энтузиастического комсомольца! Да, очевидно, потому что война есть война, и всегда остается какой-то процент…
— Ты допускаешь мысль, что Гитлер…
— Подожди! У меня, как ты понимаешь, нет никаких симпатий к этому господину. В нем в наиболее концентрированной форме сосредоточилось все то, что я ненавижу. Он демагог, изувер — словом, как принято говорить, реакционер.
— Именно поэтому он обречен!
— Довольно наивное рассуждение. Ты просто малообразованный человек, Андрей! Если бы ты столь же усердно изучал историю, как больные сердца и желудки своих пациентов, то знал бы, что в развитии человечества бывали периоды, когда варвары на довольно долгие времена успешно подавляли несравненно более высокие культуры.
— Ты самодовольный позер, Федор, — сказал Осьминин, — а мне сейчас просто некогда. Я должен ехать в больницу. Надеюсь, ты не будешь вести с Анатолием подобные сомнительные беседы.
— Анатолия нет дома. Он уехал на курорт.
— Сегодня ему полагалось бы быть здесь.
Его слова снова задели Валицкого за живое.
— Это не твоя забота! — надменно сказал он.
Осьминин хлопнул дверью и ушел. Валицкий остался один. И пожалуй, в первый раз за долгие годы их короткая встреча оставила у Валицкого неприятный осадок. Фраза Осьминина: «Ты самодовольный позер, Федор» — на этот раз почему-то больно уколола его.
Валицкий постарался восстановить в памяти, мысленно повторить те слова, за которыми последовала эта фраза. Да, да, он сказал что-то насчет истории. Может быть, это прозвучало глупо. И тем не менее он был прав. Никакая, даже самая острая ситуация не может, не должна помешать мыслящему человеку рассуждать, анализировать, сопоставлять факты.
И все же бывают ситуации, когда…
Валицкий постарался не думать об этом. Он посмотрел на большие стоячие часы. Стрелка показывала одиннадцать. Наступала ночь. Он подошел к окну, посмотрел на улицу. Там было тихо и все как обычно в полночный час, только очень мало людей — лишь отдельные прохожие.
«Трудно представить себе, что где-то идут бои», — подумал Валицкий.
И в этот момент до него донеслись далекие звуки радио. Федор Васильевич высунулся из окна, прислушался. Разобрать слова диктора он не мог, но ему показалось, что диктор настойчиво повторяет какую-то одну и ту же фразу.
Потом радио смолкло. Минуту стояла полная тишина. И вдруг ее прорезал пронзительный, завывающий звук.
Федор Васильевич подумал было, что где-то неподалеку мчится машина «Скорой помощи» и, завывая сиреной, расчищает себе дорогу.
Однако громкий, точно ввинчивающийся в воздух, в уши, в стены домов звук не приближался и не затихал, как наверняка должно было бы быть, если бы проезжала санитарная машина.
Казалось, что он исходит отовсюду и заполняет собою все.