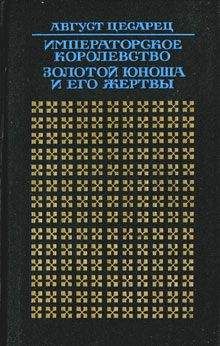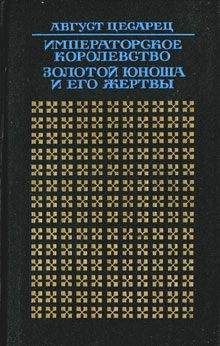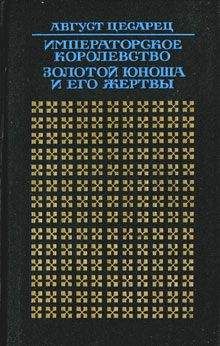Сегодня у старого Бурмута день рождения, шестидесятый по счету, и несколько дней подряд вбивает он это в голову каждому, у кого, по его сведениям, водятся денежки — в первую очередь писарям, «интеллигенции». Как-то они себя покажут? А вдруг просто поздравят? К дьяволу их поздравления, ох, и задаст он им тогда перца, заставит вкалывать на разных работах! Деньжат бы раздобыть, вчера вечером он изрядно перебрал, поэтому на него и накинулась старуха. Разве что деньжата могли бы ее утихомирить. Ну как он покажется дома, если нечем задобрить старуху? А не заявись домой, не пропустит ли он возможность опрокинуть парочку за счет сыновей, которые придут его поздравить, в первую голову тот, старший, что служит в полиции? Ну, ну, пусть эти писари попробуют забыть, какой сегодня день, покажет он им тогда, — заранее злится старый Бурмут. Мысли его путаются, снова возвращаются к Петковичу и замирают в каком-то сонном оцепенении; ему кажется, что Петкович больше не буйствует и наверняка не плачет, спит, должно быть. Почему он все-таки плакал? Бурмут зевает, ложится, погружается в сон.
Тюрьма — точно древнее заброшенное строение, в нем царствует мертвая тишина. Только на ближайшей железнодорожной станции запричитал гудок паровоза и разнесся по тюрьме, точно зловещий вопль совы. В своей камере, одетый, склонившись над столом, заваленным книгами, сидит неподвижно Петкович и не отрываясь смотрит на дверь. Какое-то плоское страшилище с прищуренным глазом пялится на него, сверлит мерцающим взглядом. Это Бурмут не закрыл глазок в двери, и через его узкий прищур крадется в камеру из коридора проблеск света и гипнотизирует Петковича. Он не шелохнется, смотрит остолбенело. Как зачарованный.
Вся тюрьма была окутана мраком ночи, словно смертное ложе черным сукном. А сейчас бледнеет это сукно, бледнеет на солнце. День где-то далеко красным неводом вытащил из черных глубин солнечный мяч и медленно поднимает его вверх. Одна-единственная лампа в коридоре окружена лучистым ореолом, она, как белый паук, сплела свою светящуюся паутину и тускло мерцает в ней, устало и дремотно. Оглашаемый возгласами часовых, ожил тюремный двор. В камерах заключенные уже встали, они умываются, приводят себя в порядок. Только в одной камере люди еще валяются на койках, зная, что Бурмут откроет их последними. Смеются, потешаются, готовят сюрприз для Бурмута: Katzenmusik, s is kolossal![3]
В городе перезваниваются утренние колокола, и где-то в тюремном дворе резко и грубо звякнул колокол. Бурмут мгновенно проснулся, утер лицо мокрым полотенцем, сгреб ключи, вышел в коридор и гаркнул свою обычную побудку:
— Ребятки, ауф![4] Парашу выноси! Фруштука[5] себе заслужи! Ауф, ребятки!
Он идет от двери к двери и все подряд отпирает. Раскрываются черные плиты на гробницах. Расползаются по коридору серые, бледные фигуры стриженых заключенных. Множество ног глухо шаркают по красножелтым каменным плитам, и возгласы, отрывистые, неясные, разносятся вокруг, как будто люди тщетно гонят друг друга куда-то, куда невозможно дойти. Кто тащит парашу, кто метлу, и все заняты делом или, по крайней мере, делают вид, что заняты. Громче всех орет и гремит ключами Бурмут, и не удивительно — у одного заключенного выскользнула из рук параша, вонючая жижа разлилась по коридору.
— Кхрраа! Тоже мне, а еще благородный называется!
Благородный Петкович — а это был он, — смеясь, смотрит ему прямо в глаза. Он рослый, крепко скроен, на залившемся краской лице сверкают глаза, зрачки горят, словно капли раскаленной смолы. Одет он в арестантскую одежду, серую, измятую, на ногах тяжелые, неуклюжие тюремные башмаки.
Смотрит он, стало быть, Бурмуту в глаза, ничего не говорит и только раскатисто смеется. Кажется Бурмуту, что это не тот человек, который ночью дубасил в дверь, страшился смертного приговора, виселицы и рыдал. Какой-то он другой сейчас. Но что ему до этого, какой есть, главное, чтобы кто-то вычистил коридор.
Взгляд Бурмута остановился на парнишке, который вертелся между сгрудившимися заключенными и что-то тайком прятал в карман. Грош, так его все зовут, потому что, напившись пьяным, он на дороге, недалеко от своего села, убил возвращавшегося с ярмарки птичника и забрал у него грош — все, что у того нашлось. Парню всего пятнадцать, и на столько же лет тюрьмы он был осужден, а поскольку приговор уже вступил в силу, через день-другой его отправят в настоящую тюрьму. Его камера находится в другом конце коридора, сюда он приплелся, чтобы выпросить у земляка табаку. И как раз засовывал его в карман, когда Бурмут ударил его ключами, — парнишка скрючился, оскалился, неестественно дико вскрикнул и хотел было кинуться к метле.
— Зачем вы его бьете? Вы не смеете никого бить! — оборвал смех Петкович и побледнел от волнения. — Я разлил, я и вытру!
— Вот я тебя ключами-то вытру! Сколько раз повторять — незачем тебе самому браться за это дело! Ты ведь у нас настоящий аристократ. А вы, шпана, что здесь собрались и скалите зубы? Марш отсюда, гады! Фруштук зарабатывать!
И Бурмут разгоняет заключенных, злится на тех, что пылят своими метлами. А Петкович берет метлу и тряпку из рук Гроша и принимается за уборку. Он склоняется над плитами пола, улыбается и, словно увлекшись приятным занятием, весело напевает. Кажется, что после окончания этой работы его ждет что-то необыкновенное.
— Может, вам хоть камеру подмести? — предлагает Грош.
— Не надо, здесь господ нет. Ступай лучше, возьми себе хлеба со стола, хо-хо-хо!
Грош бежит в камеру и потом, зажав в руке хлеб, стремительно пробегает мимо Бурмута. А Бурмут его и не замечает. В деревянной бадье кашевары притащили баланду и в сопровождении Бурмута ходят от двери к двери. Миновали канцелярию. Это первая дверь при входе в коридор. Рядом с канцелярией камера писарей, здесь Бурмут остановился, а кашеваров отправил дальше делить баланду; писарям она не нужна, потому что еду они получают с воли. Раньше, чем обычно, открыл он сегодня их камеру. Вставил, как полагается, ключ в замочную скважину, а внутри за дверью раздался топот, стук, звяканье, словно вся камера перевернулась вверх дном. Лязгает жестяное ведро, бухает стул по столу, слышны лай и мяуканье, и вот в этот невообразимый бедлам ворвался Бурмут и, как дирижер, принялся размахивать ключами.
— Подонки! Вы не дома! Здесь судебное учреждение! Тише!
Писари бросают свои инструменты и атакуют Бурмута со всех сторон. Какой-то хромой пробивается к нему, хочет всех опередить.
— Ich gratuliere[6], папа, поздравляем, поздравляем!
Бурмут готов взбеситься.
— С чем поздравляете? Что сегодня? К чертям ваши поздравления, — он смотрит на их руки. — Katzenmusik, tas hajst — пункт десятый, а не Katzenmusik! День рождения, хорош день рождения с вами, ворюгами!
А из угла, выжидавший поначалу, крадется к нему сзади жалкий человечек, бледный, с морщинистыми, впалыми щеками, горбатый. Испуганно ждет, когда Бурмут обратит на него внимание, и судорожно стискивает в руках пузатую бутылку.
— Па-почка, поздр… — бормочет он дрожащим голосом. Бурмут резко оборачивается и, как кобчик цыпленка, вырывает у него бытылку.
— Откуда это у тебя и зачем, подонок ты эдакий? — Он изучает бутылку на свет, и все писари, усмехаясь, косят на нее глазами. Только один, толстый, с маленькими глазками, язвительно смотрит на горбуна:
— Не дайте, папашка, себя обмануть. Это вода!
— Подавай ты мне такую воду каждый день! — отпарировал Бурмут и опять повернулся к горбуну. — Слышишь, тебе это не положено иметь! — Он хочет перед заключенными, заглядывавшими из коридора в камеру, представить дело так, будто это не взятка, а подлежащий реквизиции продукт, который он имеет право отобрать. — Если тебе доктор разрешит — верну.
— Это вам пап… на д-день р-рождения, — заикается горбун, но Бурмут подскакивает к нему и хватает за горло.
— Какой день рождения! Ты, дубина горбатая!
Он стиснул его так, что глаза у горбуна вылезли из орбит как у повешенного. Стремительно метнувшись к толпившимся в коридоре заключенным, Бурмут оттолкнул его, горбун закачался и стукнулся головой о стену; от растерянности Бурмут выпучил глаза, а писари громко рассмеялись.
— Подонки! Гхррааа! Чего ржете? По камерам! — Бурмут замахал ключами над головами заключенных.
Как раз в эту минуту возвращались кашевары с баландой, и один из писарей, высокий, желтолицый, протянул в их сторону миску. Он склонил голову, и в шее у него что-то заскрипело.
— Папочка, я сегодня в общей столовой. Не забудьте!
— Снова за свое, ворюга! В господина играешь! Дайте-ка этому обжоре тюремной баланды! Пусть жиреет, подонок!
— Истратил Ликотич деньги на французский бренди, — смеется кто-то из писарей, но Бурмут не слушает, потому что на другом конце коридора расшумелись заключенные. Он кидается к ним, старается перекричать, запирает в камеры. Он запер бы и Петковича, но того в камере не оказалось. Где же он? Наверное, во дворе. А здорово он все почистил! Заставлю и в другой раз.