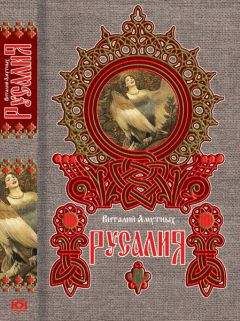— Ну, что ты? — сказал, не отнимая рук.
И тут все собрание гигантских незнаемых до сих пор чувств, нахлынувших сегодня в ее душу, всколыхнулось, тряхнуло ослабевшее тело и ринулось наружу обильным потоком безудержных слез. Она не могла выговорить ни слова, да и не знала какие такие слова следовало бы ей произнести, и будь у нее время на размышление, вряд ли вот так сразу смогла бы она взять в толк, благоприятно или начетисто для нее сложились обстоятельства. Но лавина впечатлений, при всей их разноликости, была столь тяжела, что, видимо, только влага слез могла несколько охладить накал неразвитой юной души. Добрава припала к выпуклой твердой груди теперь уже своего мужа и только судорожно комкала шелк его рубахи, изобильно поливая его слезами.
— Вот еще! — хохотнул Игорь. — Давай, я тебя к селу повезу… Потому что пора уже мне: ждут ведь меня.
Поток слез у Добравы иссяк столь же внезапно, как и возник. Она растерянно смотрела широко распахнутыми блестящими от света звезд глазами на этого сильного, чужого и такого свободного человека, а губы ее сами по себе что-то невнятно шептали:
— Да… что же я…
— Давай, давай, садись, — потеснил ее ближе к коню Игорь. — Мне к утру надо уже в Витичеве быть.
— В Витичеве! — неловко забираясь на высокого жеребца, сокрушенно воскликнула Добрава, тем самым, должно быть, намереваясь выказать участие. — Витичев — это ж дале-ече.
— Да чего там далече… — в последний раз подтолкнул ее под ягодицу Игорь, а затем сам с легкостью птицы взлетел на коня.
Бесконечно долгий от избыточных впечатлений сегодняшний путь Добравы они преодолели, казалось, в один миг. Здесь не было и в помине той звездной безмятежности, что государствовала в округе святилища Рода. С разных оконечностей села долетали обрывки разных песен, уж бестолковый звон гусельных струн, мучимых, чаятельно, нетрезвой рукой, крики, хохот, даже совсем рядом с тем местом, где осадил коня Игорь, из черноты высоких лопухов кто-то неверно тянул ходкую в эти дни любовную песенку. По горам, по долам, всюду видны были огни костров. А запахи здесь витали такие родные, столь прочно приковывающие к себе, что Добраву все сильнее начинали одолевать сомнения: то ли она сделала, не переоценила ли своих сил? Настойчивость этих мыслей разрушили большие руки Игоря, протиснувшиеся сзади у нее подмышками и широко облапившими грудь. Это было хорошо, однако продолжалось недолго. Чтобы уж не спускаться на землю, Игорь пригнул Добраву к себе, нашел губами ее губы и приложился к ним долгим холодным поцелуем.
— Ну, все, — сухо отрубил он, отстраняясь от нее. — Иди. И помни, что я тебе наказал.
Добрава покорно соскочила с коня, и, прежде чем успела примыслить умильные слова для прощания, — тот был таков. И только жар-птицы дальних костров в теплой ночи, да нестройная песня подле
У новых-то у ворот
Стоит девок хоровод,
Ой, Леля, хоровод,
Леля-Леля, хоровод.
Эти девки хотят
По лугу гулять,
Ой, Леля, гулять,
Леля-Леля, гулять.
По лугу гулять,
Круга заводить,
Ой, Леля, заводить,
Леля-Леля, заводить.
А ребяты хотят
Этих девок целовать,
Ой, Леля, целовать,
Леля-Леля, целовать…
Вот уж восемнадцатый день все множество собранных киевским князем лодей двигались вниз по Днепру. Далеко позади были оставлены славянские земли с пышными лесами и тенистыми рощами. Здесь по обе стороны реки простиралась первородная сухая степь. Закончился кресень[39], месяц солнцеворота, пошел червень[40], но там, на родных нивах, еще и не приступали к жатве, а в этих владениях огненной Рах все отступавшее на полверсты[41] от роскошных берегов уж было испепелено, лишь в пойме реки да в глубоких балках сберегалась зеленая жизнь. Неоглядные просторы дикого поля, кое-где до сих пор крытые ковылем, металлически блестели в косых лучах утреннего солнца. В наполнявшемся дневным огнем небе все меньше оставалось оживления, лишь одна-другая пара неподобающе ярких щурок-пчелоедов проносилась порой ласточкиным полетом, обгоняя друг дружку. Все окрест готовилось к вынужденной дневной лености, даже ветер, похоже, подыскивал себе лежбище где-то среди прохладных стеблей прибрежного тростника, и только могучая спина великой реки напруживалась во всю мочь, таща на себе суда перуновых внуков, да сердце правобережного разбитого тракта отзывалось гулом шести тысяч конских копыт.
Две сотни одиннадцатисаженных набойных ладей, называемых византийскими греками моноксилами[42], далеко растянулись по солнечной глади Днепра. Зимою почитай вся Русь рубила долбленки для тех ладей, а по весне, как сходил лед, сплавляла их к Киевской крепости, — от ильменских словен из Невогорода через Волхов, Ильмень-озеро и Ловать, от северян по Десне из Чернигова, от кривичей из Смоленска, от дреговичей, от древлян, а еще из Корабелища, что соседит с Любичем, — от радимичей. А в Киеве князевы ратники, расплатившись за них, вытаскивали долбленки на сушу, и здесь уж набьют борта, оснастят килем в восемь сажен из перунова дерева[43] и, разобрав особо обветшалые суда, перенесут с тех на новые уключины, весла, какой-нибудь исключительно счастливый ростр в виде сокола или конской головы и прочую оснастку. Ну и, конечно, важно по бортам красной краской ведовской узор вывести.
А у ладьи Игоря не только борта были красными, и щиты на них висели красные, но и шатер на ней был натянут красный, и парус был пурпурный.
— Дай-ка мне кису[44], - крикнул он через плечо отроку Безуему, — солнце поднимается.
Как видно, князь не собирался уходить с носа ладьи под прикрытие шатра. Пристально вглядываясь в скучные безжизненные дали, он все-таки ожидал кого-то высмотреть в них. Безуем подал кису, Игорь набросил ее на себя, закрепил на плече почерневшей серебряной пряжкой с изображениями Дажьбога и Ящера, почесал коротко стриженую бороду и вновь вперился взором в подвижную от земных испарений линию соприкосновения металлически блестящего ковыльного поля с безупречно гладкой синевой безоблачного неба.
— Рулав! — вновь крикнул Игорь, и слышалось в голосе его беспокойство. — Безуем, позови-ка Рулава!
Молодой гибкий, как лесной кот, Безуем тотчас нырнул под тряпичный навес, и вот полог шатра широко распахнулся, — щурясь, прикрывая лицо рукой, выбрался на свет Рулав, посадник у северян и вернейший наперсник князя еще со времен Олеговых походов. Растительность на его небольшой голове, казалось, вовсе без шеи прилепившейся к исполинским плечам, была представлена только длинными русыми усами, зрелый торс ничто не покрывало, кроме бессчетных рубцов, да по всей правой руке от самых ногтей до того места, где могла находиться шея, была наколота краской причудливая плетенка корней и ростков, в которой можно было углядеть и собакоголового Переплута, и Грифона-Дива, и волков, и львов, и орлов, Солнце, Луну, пчел, змей, крылатых русалок и еще невесть какие чудеса. Но несмотря на свой встрепанный вид, был он в ремешковых сапогах, к поясу пристегнут, как и у Игоря, акинак[45].
— Чего тебе? — со звериным рычанием потягивался Рулав. — Может, еще чумазую половчанку себе высмотрел?
На это Игорь только фыркнул да нетерпеливо махнул рукой.
— Надо на весла садиться, видишь, — ветер совсем пропал, — сказал он.
— Надо — значит, сядем, — еще раз зевнул Рулав, все так же оставаясь стоять, чуть раскачиваясь на свободном пятачке палубы.
Плеск воды. Изумленный крик чайки.
— Смотри, ведь нет никого, — не отрывая глаз от ничуть не меняющей своего облика степи вновь уронил Игорь.
— Да кому же быть? — с прежним равнодушием отвечал великан. — Вон только их черная баба показалась, — широченной лапой он указал на сиротливое каменное изваяние, темной точкой замаячившее вдали. — Солнце пойдет на убыль — как раз и подойдем.
Неприглядные сухие степи вроде бы никому не принадлежали, и все-таки были у них хозяева. Кочевья печенегов там и тут бороздили скупую землю, и здесь находя ресурсы своему существованию. Нередко они подходили к самому Витичеву. Но как правило жители пограничья Русской земли находили с ними общий язык, а нередко и взаимные выгоды. Случались и размолвки, заканчивавшиеся подчас широкомасштабными побоищами. Воинами они были нельзя сказать, чтобы дюжими, и потому полагались в основном на свое исключительное владение луком, изворотливость; а уж как до шельмовства они были горазды, порой самого младенческого! То чучела людей понаделают и на коней посадят, чтобы войско больше казалось, то притворятся, что с поля бегут, в ловушку заманивая. Большей частью мозглявые телом в рукопашную они никогда не вступали, и стоило рвануть на них решительно, как они точно горох по полу рассыпались во все стороны, становились поодаль и начинали посыпать стрелами, не считая их. А вся задача тех стрельцов была — измотать противника. Вот, если им удавалось не на шутку изранить издалека стрелами и людей, и коней русичей, тогда конные лавы степняков следовали одна за другой, тогда могли они и в бой ввалиться, начинали арканами размахивать — ловить раненых и добивать их саблями. Кстати, вожди их никогда сами в бою участия не принимали, а только наблюдали издалека вместе с женами и отроками. Отогнать их, как стаю слепней, ничего не стоило, а перебить — было невозможно. Впрочем, степняки никогда не стремились захватывать русские земли и даже в случае удачного для них исхода сшибки не оставляли никаких постов.