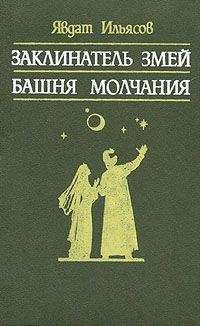Ибо у сабли – одно лезвие, у языка – сто лезвий.
Дар речи – великое благо!
Но стоит ли без толку, где попало трепать и мусолить сей дар – конечно, чудесный, бесспорно, волшебный, бесценный, бесподобный и редкостный?
У природы нет любимых и нелюбимых детей. Снабжая людей одинаковым количеством рук и ног (по паре, не больше, не меньше), она отпускает всем поровну и запас жизненных сил. Почему же одни создают кое-что, а иные – нет? Потому, что первые – молчаливы, а вторые – болтливы. У тех вся их мощь уходит на дело, у этих – на разговоры. Иначе говоря, у каждого в кармане – сто золотых, но тратят их люди по-разному: Кто на хлеб, кто – на брагу.
Вера в магическую силу слова зародилась во мгле забытых эпох.
Обожествлялся камень.
Обожествлялась вода.
Обожествлялось слово.
Для дикаря сказать – уже значило сделать.
Так появилось заклинание.
С тех наивных времен прошли тысячелетия. Дикарей вроде нету уже на земле. А вера в колдовскую мощь слова осталась.
Какой только подвиг не совершит иной ловкач на словах! Море выпьет. С неба звезду сорвет.
Одних заставляет пустословить глупость. Бог с ними! Что с них взять? Их просто не надо слушать. Останется болтун наедине с самим собой – тотчас перестанет трепать языком. А не перестанет – что ж! Пуст! развлекается.
Но попадаются и хитрецы, рассматривающие свой язык как отмычку. Для этих подчас все двери открыты. Потому что, по той же древней привычке, о человеке часто судят не по руке, а по языку.
Между тем вовсе не обязательно быть мудрым Сукратом, или мудрейшим Ифлатуном, или мудрейшим из мудрейших Арасту [4], чтоб заметить, что порой между словом и делом лежит примерно такое же расстояние, как от преисподней до колец Сатурна.
Слово – серебро, да! Зато молчание – золото.
Случается, у кого язык острый, у того ум тупой.
У истинного храбреца язык робкий.
Где меч не помог, там язык бессилен.
Не зацветет равнина от пустых речей.
…Бахтиар вздохнул. Люди, люди! Один дерет горло ради награды. Другой из кожи лезет, чтоб эмир услышал и запомнил его льстивую речь. Пригодится. Третий – лопнуть готов, лишь бы толпа обратила внимание и удивилась. Каждый занят собой. Забыли, для чего собрались.
Что творится на свете?
Вспомнился пахарь, приютивший его позавчера. Старца можно простить. Темный человек, забитый. Для бедняги всякий чужеземец – рогатый Яджудж, всякий недруг – сказочный Маджудж, и единственное спасение от всяческих бед – заклинание.
Но эмир с муллой… их ведь с детства натаскивали, носом в книгу совали! Учили править. Судить. Разбираться в запутанных спорах. Они-то должны, черт бы их забрал, видеть суть вещей.
Почему же в рассуждениях столь просвещенных лиц еще больше убожества, чем в мыслях изнуренного работой крестьянина, который, дожив до седых волос, до сих пор не знает, несчастный, где у него правая рука, где левая?
Разве он их, а не они его наставляют?
Постой-ка, постой! Уж не потому ли жалок до слез, скудоумен и дик тот бесхитростный мужик, что наставники ему попались тупые? И не потому ли тупы эти горе-мудрецы, что их образ жизни не терпит остроты ума – ни своего, ни чужого?
Стадо ведет вожак.
Куда вожак, туда и стадо.
Вожак в гору – стадо за ним.
Вожак в пропасть – стадо следом.
Куда идет вожак?
Туда, где растет трава.
Зачем?
Утолить голод.
А если травы мало?
Она достанется тому, у кого самые крепкие рога
А кого в стаде самые крепкие рога?
У вожака.
А если травы много?
Все равно лучшую поедает вожак.
Так гласит звериный закон гор и степей. Но и люди гор и степей живут по этому закону. Правда, у них нет рогов и копыт. Зато есть сабли, копья, стрелы. Есть Нерукотворная книга. «Повинуйтесь аллаху, повинуйтесь его посланцу и власть имущим из вас». Сура четвертая, стих шестидесятый.
Бахтиар заплакал.
«Мать! Сколько дряхлых стервятниц-старух слетелось к телу твоему, когда ты умерла. А при жизни, в те жуткие дни, когда тебе приходилось сидеть голодной, потому что ты отдавала мне последний шарик сухого сыру, они обходили нашу хижину стороной.
Сколько заклинаний прозвучало над покойной. Стены шатались от криков и причитаний. А потом, после похорон, эти вороны стали делить одежду. И куда девалось благочестие.
Зачем ветхой старухе, которая вот-вот сама сойдет в могилу, еще одна тряпка, да к тому же – чужая? Сиди с внуками, грейся на солнце, гляди на траву, на воду. Радуйся, что живешь. Так нет! Черные, с хриплыми голосами, косматые ведьмы, остервенело вырывая друг у друга застиранные платки и платья, готовы были заодно и очи вырвать, руки оторвать. Будто вместе с дырявой тряпкой переходила к беззубой чертовке доля жизни, недожитая хозяйкой.
Помню, в Ургенче мне довелось услышать спор двух ученых. Один был свой, мусульманин. Другой – приезжий, светлобородый. Приезжий вычитал в старинных книгах, будто давным-давно, еще до персидских завоеваний, когда жители Хорезма кочевали в песках и молились солнцу, они поедали умерших сородичей. Наш богослов – лупоглазый, крючконосый – возмущался, брызгал слюной, доказывал: чепуха, не может быть.
Может быть! Было. Где уж древним дикарям, неумытым и темным, жалеть почивших, если даже сейчас, через тысячу лет, люди устраивают над покойными гнусный дележ? Нельзя труп сожрать, рады хоть тряпьем поживиться.
Эх! Обычай. Проклятый обычай».
Ислам представился Бахтиару исполинским зеленым пауком, раскинувшим прочную сеть на огромном пространстве земли, над городами, селениями и дорогами. Этой липкой упругой сетью крепко оплетены дома, храмы, базары. Постели новобрачных и колыбели новорожденных. Одежда, книги, пища, питье. Кладбищенские носилки и могильные камни. Ненасытный паук день и ночь, не уставая, с жадным хлюпаньем сосет кровь из сотен тысяч отчаянно жужжащих мух, в жалкой слепоте гордо именующих себя правоверными.
Давай. Давай. Давай.
Скорей. Скорей.
Деньги.
Деньги для бога!
Странно. Почему молитва, не сопровождаемая звоном монет, не доходит до бога! Зачем богу деньга? Ведь он – не купец.
Кто есть бог?
Белопенную струю Бахтиаровых мыслей резко преградил камень страха. За той гранью, где остановился Бахтиар, существовала истина, которую не мог постичь безвестный кузнец из крепости, затерянной на краю голых пустынь. Ему не хватало смелости переступить эту грань. Сделав шаг, он сошел бы с ума.
Лучше не думать о том, что недоступно разуму. Ясно одно – человеческая жизнь устроена очень плохо.
Ее надо переделать.
Как?
Где взять силу, чтоб перевернуть мир?
Неизвестно.
«Что мы можем, бедные селяне?»
Бахтиар прислонился спиной к щербатой глинобитной стене, уперся локтями в колени согнутых ног, обхватил ладонями голову.
Человек. Бедный человек. Серая пылинка на гигантском лике планеты. В небе, высоко-высоко над головой, плывут облака. У ног суетится муравей. Велик мир. Велик до жути. И все же он весь – с облаками, муравьями, океанами, звездами, горами, людьми, тиграми, грязью, травой, дружбой и враждой – легко, точно глоток воды в чаше, умещается в неприметной пылинке, называемой человеком. Весь мир проходит сквозь мозг в одно мгновенье. И остро тревожит сердце!
Нужно все это тебе, человек?
Пожалуй, нет. Стоит ли калечить себя, надрываться, ломать зубы, рвать кожу ради черствых существ, которые не то, что спасибо сказать за твой адский труд, неслыханную доблесть – живьем слопать готовы за то, что ты на них не похож?
Не так уж много потребно для простых, тихих радостей. Не лучше ли, подобно черепахе, спрятаться в панцирь и спать, наевшись зеленой травы? Никаких волнений! Спокойствие. Долгая жизнь.
Или, раз уж тебе дано постичь величие Вселенной, следует, не боясь ярости слепых, соразмерять жизнь не с пылинкой, крутящейся перед носом, а с хороводом звезд, несущихся в бесконечность?
– Разве эмир остался в лагере?
– Да. Бурхан-Султан тоже.
– Кто возглавил отряд?
– Дин-Мухамед, красивый и храбрый.
– Как? Доверить войско этой пешке… Почему ты не с ним, Бейбарс?
– А почему я должен быть с ним, друг Бахтиар? Я – есаул эмира и обязан находиться при особе эмира. И потом, скажу откровенно, я пока не сошел с ума. Смеешься ты, что ли, надо мной? Нашел дурака. Ужели баран я глупый да рогатый, чтоб лезть в татарскую пасть?
– Разве лишь глупый баран дерется с врагами?
– Не только. Есть не менее вздорный осел, стремящийся славу в битве добыть. Я не баран, не осел. Не хочу славы. Не ищу почестей. Обойдемся без них. Пусть не слагают, обо мне хвалебных поэм. Пусть потомки не визжат от восторга, читая об умопомрачительных подвигах железнорукого Бейбарса. Все это – пыль, дым и чепуха.