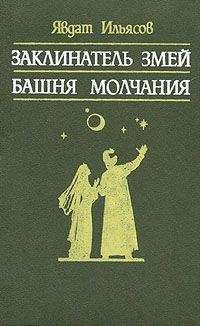– А что не чепуха? Не дым? Не пыль?
– Цветы. Река. Чистый воздух. Сочное, отлично зажаренное мясо. Золотистое вино. Любовь. Сладкая жизнь.
– Ух ты! Заманчиво. Но сладкая жизнь не дается даром. Надо работать. До кровавых мозолей.
– Не хочу.
– Тогда: – грабить.
– Боюсь.
– Торговать.
– Не умею.
– Что же еще?
– Поддакивать.
– Кому, в чем?
– Правителю. Во всей ерунде, которую он городит. Каждой чурке с глазами, вроде Нур-Саида, страсть как не терпится мудрой прослыть. Это надобно ей для процветания. А ума – нету. Кому приятно сознавать себя дураком? Вообще-то, чем глупей человек, тем крепче он верит в собственную мудрость. Но, видать, и его душу точит порой червь сомнения. Толкуют при нем, например, о планете Кейван, а он – от арбуза не может ее отличить. Бедняга хочет проверить свой разум на окружающих. Скажет что-нибудь несусветное – и тотчас приглядится: понравилось, не понравилось. Все – в ужасе. Один молчит, другой ворчит. Тут-то я и прихожу к нему на помощь. Поддакиваю. Эмир – доволен. Нет, думает, все-таки я не дурак, раз такой острый парень, как Бейбарс, со мной согласен. Эй, выдать Бейбарсу новый халат. Отсчитать есаулу Бейбарсу сто золотых. Подарить есаулу Бейбарсу юную девственницу. Вот и сладкая жизнь. Ешь досыта, спишь вдоволь. Покой. Никаких забот.
– Н-да. Умен ты, я вижу.
– Конечно! Но – по-особому. Я для себя умен, друг Бахтиар.
– А не пахнет ли это занятие…
– Чем?
– Ну… низостью, что ли?
– О-ха-ха! Удивил. Низость – основа основ, друг Бахтиар. Земля, говорят, стоит на бычьих рогах. Так? Знай же, тот бык – бог наживы. А рога… правый – низость, левый – подлость. Люди обманывают людей. Дерутся. Вырывают друг у друга власть. Оставляют близких в беде. Всякий человек по-своему низок. Например, Дин-Мухамед. Почему он тебя ненавидит? Сохнет от зависти. Ты за славой не гонишься, так? Даже не помнишь о ней. Сама приходит. А Дин-Мухамед? Сколько б ни тужился, сколько б ни пыжился, сколько б ни взвинчивался в воздух пустой головой – не может прославиться, и все тут! Хоть лопни. Знает, сукин сын, что такое слава, завоевать – разумом скуден. Вот и бесится. Для чего, ты думаешь, он отряд возглавил? Чтоб татар разгромить? Э! Ему все равно, татары там или джины. Он хочет сейчас отличиться, чтоб Бахтиару глотку заткнуть. Я насквозь его вяжу. И Нур-Саида. И Бурхан-Султана. И даже шаха Мухамеда. Лишь одного человека в Хорезме не понимаю, друг Бахтиар.
– Кого?
– Тебя.
– Да ну?
– Почему тебя прозвали Свирепым?
– Сам диву даюсь. Придумали тоже. Черт знает что.
– Я иначе назвал бы. Ты не Бахтиар Свирепый. Ты Бахтиар Странный. Бахтиар Нездешний. Бахтиар – Дьявол знает какой.
– Чего это вдруг?
– Не наших дней человек. Слишком поздно родился. Тебе надо было явиться на свет в эпоху ученых древней Эллады. Или хотя бы лет сто пятьдесят-двести назад. Когда на земле жили Балхи, Бируни, Фирдоуси, Абу Али ибн Сина, Омар Хайям. Когда чтили разум и человечность. Когда любили поэзию. Ты – одержимый. Ты – блаженный. Ты – отщепенец, дервиш и поэт. Наш век – век жестоких правителей и жадных завоевателей. Они обожают власть и не признают стихов. Наша эра – не твоя эра, Бахтиар. Тебе не место среди нас. А может, ты родился слишком рано? Может, через тысячу лет все будут такими необыкновенными, как ты?
– Эх, милый. Каждый рождается вовремя. Да не вовремя умирает. Или слишком рано, или слишком поздно.
– Что ты хочешь этим сказать?
– И сам не знаю.
– Вот видишь! Ты – чужой. Недоступный. Говоришь по-кипчакски, но я – не понимаю. Будто ты гость, из неведомых стран.
– Чужой? Почему я чужой у себя дома? Это ты, кипчак, тут чужой. А я – свой на хорезмской земле. Мы, сарты, ниоткуда не приходили – наш корень здесь. А если и пришли, то так давно, что никто, уже не помнит, когда. «Необыкновенный. Нездешний. Странный». Нагородил. В чем видишь ты странность мою?
– Не кипятись. Разумею – обидно. Но дом твой – не твой уже дом. Теперь это дом Нур-Саида. А завтра он станет жилищем хана Джучи. И – ничего не поделать. Рука судьбы.
– Был моим – и останется навсегда.
– Ну, посмотрим. А странность твою в том я вижу, что ты – единственный из всех, кого я знаю, хлопочешь о проклятой хорезмской земле, чтоб ей сгореть дотла. Нур-Саиду все равно, что с ней произойдет. И Дин-Мухамеду все равно. И Бурхан-Султану. И даже самому шаху Мухамеду. Убежал повелитель неизвестно куда. Ни слуху ни духу. Так? Зачем же ты, бедный сарт, вчерашний кузней, из кожи лезешь? А? Я поражен. На кой черт тебе Айхан? На кой бес татары? Почему ты не заботишься о своей голове? Ради каких благ с пеной у рта зовешь нас на бой с монголами? Во имя какой корысти надрываешься? Какой дьявол заставляет тебя мучить себя и других?!
– Хорошо. Слушай. Ты сказал – лучше б мне, Бахтиару, родиться при Бируни, при Омаре Хайяме. Но ведь они – тоже не в райских садах порхали. Их терзали. Позорили. Гнали. Они страдали не меньше нас. И все ж – никому не поддакивали. Между тем Бируни, с его-то знаниями, мог пригреться не под куцым хвостом степного князька, подобно тебе, а под широким крылом халифа, отца правоверных. И врач Абу Али, если б захотел, золотой дворец поставил на подачки царей, не желающих умирать. И перс Хайям сумел бы устроить такую сладкую жизнь, какая тебе и не снилась. Ведь он не только вино хлестал да стихи слагал. Большой был ученый. Лекарь. Исчислитель. Звездочет. Однако не искали эти люди теплых гнезд, уюта, сытости. Почему? Почему, несмотря на бешеную выгоду, которую сулила им покорность, они по доброй воле уходили в нищету, сознательно покой на тревогу меняли?
– И я спрашиваю – почему?
– Может, кроме вина, сочного мяса, не менее сочных женщин, – стой, не мешай, я отвечаю не только тебе, но и себе, – существует на свете… что-то такое, что дороже всех удовольствий – пусть самых полных, самых жгучих?
– Что именно?
– Совесть, наверное. Человеческая совесть.
– Дин-Мухамед?! – Нур-Саид тупо уставился на свое злополучное чадо. – Что с тобой?
Сын не отвечал.
Он вел себя как человек, вдосталь накурившийся гашишу: устало сомкнув опухшие веки и беспомощно свесив голову на грудь, медленно падал вперед, и когда уже казалось – вот сейчас опрокинется наземь, вдруг резко вздрагивал, выпрямлялся. Испуганно выкатывал глаза, обалдело озирался вокруг – и опять клонился в пустоту.
– В засаду попали. – Байгубек, единственный спутник храбреца, старый кипчакский воин, с трудом сполз с коврового, протертого до дыр седла, заковылял к Дин-Мухамеду, чтоб помочь ему слезть.
– А где… отряд? – вопросил Нур-Саид. – Где люди ваши?
– У Черной воды лежат.
– Лежат? Почему? – удивился Нур-Саид.
Байгубек изумленно взглянул на эмира.
– Уложили.
– Кто?
– Они. Те самые. – Воин кивнул в сторону дыма, который громоздился уже громадной грозовой тучей.
– Всех?
– Не знаю. Некогда было считать.
Бурхан-Султан и Нур-Саид непонимающе посмотрели друг на друга.
– Где же мощь ваших длинных молитв, святой отец?
Перед муллой плавно, хищно и неотвратимо, будто коршун перед сурком, возник и насупился Бахтиар. Острый взгляд Бурхан-Султана мгновенно ускользнул в сторону, заметался, как солнечный зайчик, по земле, по гривам коней, по уныло обвисшим усам молчаливых телохранителей.
– «Если аллах, – ухватился старик за спасительный стих из писания, – захочет причинить зло какому-либо народу, оно неизбежно». Коран, сура… – Уже твердо зная, что он вновь укротит строптивца, мулла смело вскинул недобрые глаза на Бахтиара. И умолк. Язык мудреца запнулся, неловко подвернулся под зубы – и окрасился кровью, прокушенный насквозь.
Бурхан-Султан, не отрываясь от непонятно засиневших Бахтиаровых очей, тяжело попятился, спрятался за карагач. Вяло провел руками по блеклому лицу. Опустился на корточки, стараясь унять дрожь в ногах – редкую, но такую сильную, порывистую, что колени глухо, но слышно для всех, стукались одно о другое. Словно полено о полено.
– Ты накаркал беду! – Дин-Мухамед, стряхнув оцепенение, ринулся к Бахтиару. – Кто спорил, молебну мешал? Ты испоганил грязью сомнений мед наших помыслов чистых!
– Эй, златоуст! – воскликнул Бахтиар, отступая. – У китайского хана сто лет назад издох любимый охотничий пес. И в этом, скажешь, я виноват?
– Язвишь? Зарежу!
– Отстань, сумасшедший!
Бахтиар толчком в грудь остановил Дин-Мухамеда. Тот вдруг скривился, закатил глаза. Раскорячился, чуть присел, болезненно всхлипнул. Послышалось журчание. Под ногами удальца из рода канглы образовалась лужа.
– Смотри-ка, – удивился Бахтиар. – И каких только чудес не увидишь на свете! У меня кровь – точно у хворой овцы. Жидкая, бледная. А твоя, оказывается, и вовсе прозрачная. Будто овечья… слеза. Похоже, и тебя укусил хан Джучи. Только – за какое место?