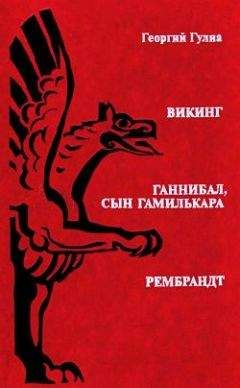Скальд зачерпнул воды и пригубил ее.
– Вкусна? – спросил Кари.
– Как мед! – ответил восхищенный скальд.
Тогда и Кари испил воды и чуть не задохнулся: она была холодная-холодная. Отдышавшись, как после ожога, он почувствовал истинный вкус: да, это был сущий мед!
Тент сказал:
– Я бы прочел одну из своих песен, если бы они были достойны этой красы: поляны этой, этих зеленых стражей, этого неба и этого небесного ока. Я не хочу нарушать гармонию, которая вокруг нас и которая есть символ жизни. Отражение всегда слабее самого предмета. Источник этот есть начало всему, а все прочее – лишь отражение.
– Ты говоришь о мире? – спросил Кари.
– Я говорю о жизни.
И Тейт снова зачерпнул воды. Ладонь его была груба, и тем ярче искрилась на ней вода, подобная ртути.
– Я не думал, что в этом страшном лесу может быть такая нежная поляна, такой нежный родник. – Это сказал Кари.
– Нарочно привел тебя сюда. Ты должен усвоить одно: когда тебе плохо, когда на душе камень – приходи на эту поляну, наберись здесь светлых мыслей, и тебе будет легче. Запомни. Это мой добрый совет.
– Запомню, – сказал Кари.
– А дорогу найдешь легко. Иди от переправы прямо на север. И ты не минуешь родник. Когда полюбишь – а ты, наверное, полюбишь, – приведи свою избранницу сюда, и оба поклянитесь в любви друг другу возле этого небесного ока.
– А я уже люблю, – признался Кари.
Тейт промолчал. Что он хотел этим сказать?
Отец Фроди, узнав о происшедшем на Форелевом ручье, сказал:
– Сыновья Лютинга теперь поймут, на кого посмели поднять руку.
Жена его, неистовая Торхалла, поклонившись идолу, молвила:
– Я клянусь перед его ликом: мои мужчины сробеют – я отомщу!
Смерть Ана потрясла семью Лютинга. Глава ее сказал:
– Мне не нужен тинг. Тинг только для слабых. Мы сами разделаемся со всеми мужчинами из этого подлого рода.
И он склонил голову перед идолом, которому поклонялся всю жизнь.
Кари казалось, – он в этом почти был уверен, – что за этот день повзрослел на несколько зим. Во всяком случае в нем что-то сильно изменилось. Это происшествие на переправе через Форелевый ручей перевернуло в нем всю душу. Он, разумеется, слышал о схватках берсерков, но видеть собственными глазами обильную кровь и слышать собственными ушами лязг мечей ему еще не доводилось. Больше всего волновал его один вопрос: ради чего все это? Ради чего проливалась нынче кровь и ради чего бились на переправе эти ошалевшие люди?
Объяснение скальда не давало четкого ответа на его вопрос. Говорить, что все это жизнь, можно. Но это требует еще и дополнения. Отчего же она такая, эта жизнь? Должно быть, Тейт знал это, но многое, несомненно, держал при себе. Может быть, до поры до времени?..
– О чем задумался? – спросила мать во время ужина.
– Сам не знаю, – ответил сын.
– Мясо стынет…
– Успею…
Отец поглядел на него искоса. А потом проговорил словно бы между прочим:
– Весною в голову лезут всякие мысли. Особенно молодым.
Мать сказала на это:
– Зима слишком сковывает чувства. Они прячутся в глубине сердца, как в норе. С солнцем они выходят наружу, бередят душу…
– Это так, – подтвердил отец.
Потом все продолжали трапезу и, казалось, вовсе позабыли о задумчивом Кари. И вот тогда-то Кари сказал:
– Ульв и Фроди поссорились… Они дрались…
– Ты видел сам? – Отец перестал жевать.
– Да, сам.
– Что же ты видел?
– Как они дрались.
– Эти двое?
– Нет, еще и братья их.
– А ты?
– Я стоял за деревом. Вместе со скальдом Тейтом.
– Они тебя приметили?
– Нет. Тейт не разрешил мне вмешаться.
– Значит, никто не знает, где ты был и что ты видел?
Отец бросил кость в огонь.
– Когда слишком много знаешь, – сказал он, – то придется держать ответ. Рано или поздно. Каждый должен твердо знать: что ему следует ведать, а чего – нет. Такова жизнь. Без этого не проживешь и дня.
«Опять эта жизнь!» – подумал Кари.
– Говори дальше, – приказал отец.
Кари рассказал все, что запомнил из виденного на Форелевом ручье. И о скальде сказал, который цепко держал Кари возле дерева на потаенном месте.
– Скальд умен, – сказал отец. – Все, что слышали, должно умереть возле этого очага. Все поняли?
И, не дожидаясь ответа, встал и ушел в темный угол. И бросил уже оттуда, из угла:
– Забыть о слышанном, забыть о виденном… И не болтать. Не болтать, а заниматься делом. Завтра уходим за рыбой. В море.
Было поздно. Кари сидел на дубовом обрубке и смотрел на луну. Она была бледная, как песок на берегу фиорда. Такая бесцветная, бескровная, хилая.
Было ему тяжко. Наверное, очень он глуп – поэтому так тяжко. Наверное, просто цыпленок он – такой несмышленыш, который не может понять, где живет и почему живет. Ведь этак и щенок существует…
К нему подошел отец его – Гуннар, сын Торкеля. Уже немного грузный, морщинистый, пропахший морской сыростью, изъеденный солью… Он уселся рядом с сыном. Долго сопел, а потом сказал так:
– Нас теперь никто не слышит. В доме все улеглись. Наверное, человеку бывает кое-что непонятно…
Сын молчал.
– Да, да. Он живет, он дышит, он любит, он размножается. Часто подобно зверю. Да, да! Может быть, скальд Тейт тебе говорил что-либо иное?
– Нет, не говорил.
– И не может сказать! Ты у меня из сыновей остался один. Ты должен жить, но при этом непременно думать. Все время думать, думать, думать… А почему?
Кари промычал:
– Не знаю.
– Да, бывает и так, что человек не знает. Но случается, что кое-что и узнает. Кое-что вгрызается ему в голову и остается там надолго. На всю жизнь. Если, разумеется, мозги у него на месте.
Кари слушал. Ждал. Что-то еще скажет отец…
– Послушай, Кари, надеюсь, ты не чурбан, подобный тем, на которых мы сидим. Неужели ты полагаешь, что Ульв, Фроди и все прочие головорезы дерутся из-за форели? Нет! Они рассуждают так: отдай сегодня несколько форелей, завтра отнимут у тебя всю твою землю, оберут до ниточки. Тебе известно, что звери оберегают свою берлогу и прилегающий участок?
Кари кивнул.
– Так и они… Эти… Фроди, Ульвы, Аны… Если ты сунешься к ним и сорвешь в их лесу хотя бы одну ягодку – они оторвут тебе голову. Они чувствуют свою силу. Они не могут без нее. Ты это должен понимать. Не маленький.
Кари пробормотал:
– И все-таки – отдать жизнь за несколько рыбешек? Он лежал в воде, и шея его была проткнута… Из нее текла кровь. Вниз по речке.
– Да, так и должно быть.
– Тейт сказал, что это – жизнь.
– А я добавлю: страшная жизнь.
И больше ничего не сказал. Ни слова. Встал Гуннар и пошел спать. В теплую постель к своей жене.
А Кари глядел на луну, и разные мысли толкались в голове его. В беспорядке. А когда он снова присмотрелся к луне, она показалась знакомой. «Да, это она, – подумал Кари, – это она, Гудрид, дочь Скегги». Вдруг сделалось на душе легко-легко. Отвращение, которое он испытывал ко всему сущему на земле, сменилось ожиданием чего-то особенного, необыкновенного. Луна и Гудрид! Что между ними общего? Одна слишком высоко, а другая хотя и рядом вроде бы, но еще более непонятная, необыкновенная…
Понемногу мысли ею сошлись на одном: Гудрид. Думал только о ней, а смотрел на луну.
Ночь была светлая, Кари не торопился в свою каморку…
А уснуть Кари так и не мог. Что-то перевернулось в душе. Он вроде был прежний Кари и не прежний. Как можно жить по-прежнему после всего виденного и пережитого на Форелевом ручье? Пусть Тейт сколько угодно твердит, что это – сама жизнь. Пусть отец объясняет, откуда берутся эта злоба, остервенение, это желание ранить, убить, утопить в воде себе подобного, все равно трудно понять и – тем более! – принять такую жизнь.
До сего дня было все как будто просто: отец, мать, сестры, очаг, бабушкины сказки, выход в море, работа на поле… Ничего загадочного. Все ясно, как летний день. Но недаром, как видно, рассказывались страшные истории за очагом. Битвы между конунгами были любопытными. Поединки берсерков тоже будоражили воображение. Кровь и стоны в сказках – одно, а на Форелевом ручье – совсем другое. Есть над чем призадуматься!
Лежал Кари на спине и смотрел вверх – в черную пустоту. Там было страшно, как страшна оказалась и сама жизнь. Но как это бывает очень часто, из пустоты и мрака показалась звезда. Правда, пока очень маленькая. Огонек, что зажегся вверху, над головою Кари, звался Гудрид. Сказать откровенно, он ее тоже не понимал, так же, как жизнь. Было у них что-то общее: и та и другая были полны всяческого значения, от которого на душе становилось тревожно.
Чем ярче разгорался огонь над головою в темной вышине – тем сильнее билось сердце. Нет, это не был страх. И ничего плохого не внушал ему этот огонек. Но отчего же в нем непонятная трусость? А если не трусость – то что же? Смотреть на Гудрид долго невозможно: поджилки трясутся. Значит – это трусость. И в то же время приятно. Значит – не трусость, а нечто новое, неведомое доселе.