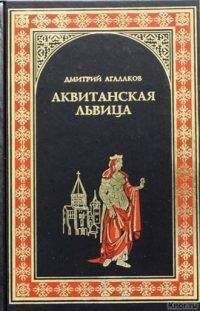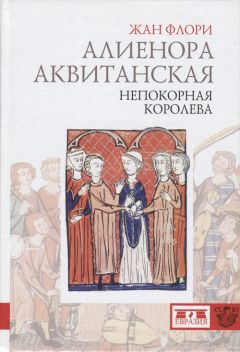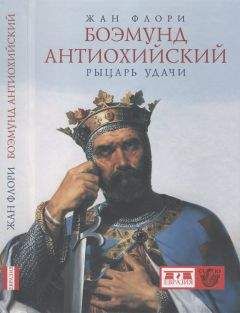Нормандия выступила против короля Франции, но ему тут же подоспела помощь из-за Ла-Манша в лице сына графа Стефана де Блуа — Евстафия.
Сам того не подозревая, Людовик оказался в центре запутанного клубка англо-нормандско-анжуйской политики, от которой так ретиво сбежал четырнадцать лет назад в Антиохию молодой Раймунд Пуатьерский.
После смерти Генриха Первого Грамотея дочь его Матильда и племянник Стефан де Блуа начали борьбу за власть, окунув Англию и Нормандию в хаос гражданской войны. Но у Матильды был могущественный супруг на континенте — Жоффруа Красивый Анжуйский, когда-то выбранный ей в мужья дальновидным отцом, и молодой, но уже воинственный сын Генрих. Не так давно анжуйцы прижали Стефана де Блуа и вынудили его признать их условия: сразу после смерти Стефана королем Англии и Нормандии становится Жоффруа Анжуйский, а сыну Стефана Евстафию достается графство Блуа и Булонь.
Немного, но все же лучше, чем ничего.
В том самом 1150 году, когда Жоффруа Анжуйский рассорился с сенешалем Пуату Жиро де Берле из-за пограничного лесочка, граф торжественно передал власть над герцогством Нормандия своему старшему сыну — восемнадцатилетнему Генриху.
И теперь получалось, что Людовику Седьмому грозила война на два фронта: на западе — с Жоффруа Анжуйским, на севере — с его сыном Генрихом. В связи с этим помощь от Евстафия, так и не смирившегося со слабостью, проявленной его отцом Стефаном де Блуа, была очень кстати — она оттягивала силы Генриха Нормандского на север, к Ла-Маншу.
Все это грозило Европе, и так истощенной Вторым крестовым походом, страшной войной. Нормандия и Анжу набросились бы на Иль-де-Франс, на Нормандию напала бы Англия в лице Евстафия, на Анжу — Пуату и Аквитания. Другие герцогства и графства Франции тоже не остались бы в стороне.
Перспектива была устрашающая: к чему привел бы этот ад, не открыл бы ни один предсказатель.
И тогда на политическую арену Европы вновь вышел Бернар Клервоский. Он взялся помирить непримиримых противников — короля Франции Людовика Седьмого и графа Жоффруа Анжуйского Плантагенета.
По настоянию Бернара в пограничном городе Дрё была созвана ассамблея, на которую пригласили первых баронов королевства. В присутствии доброй сотни свидетелей, высокородных сеньоров и сеньор, решил Бернар, король и граф будут сдержаннее и не дадут разгуляться своим страстям.
Тем не менее, появление Жоффруа Анжуйского Красивого поразило всех. Его ждали с нетерпением — он опаздывал. И вот церемониймейстер ударил жезлом об пол и зычным голосом произнес:
— Граф Анжу и Мэна, Жоффруа Плантагенет!
Граф вошел по-хозяйски — в черном кафтане, расшитом серебром, в замшевых перчатках, при мече на широком поясе, и кинжале, в черной бархатной шапочке, украшенной веточкой платана, каковой он украшал любой головной убор, даже шлем. Его длинноносые сапоги были сшиты на славу и смотрелись последним криком моды, каковую он сам поневоле и придумал (кто вспомнил бы, что под мягкой кордовской кожей граф скрывал больные пальцы!); звонко позвякивали шпоры анжуйца.
А вслед за Жоффруа в залу грубо втолкнули несчастного Жиро де Берле, в драном пурпуэне и кандалах, сцепивших его руки и ноги. И вот этот вызывающий вид триумфатора и сразил всех наповал — граф точно нарочно бросал вызов своему королю и говорил: «Я не менее значим пред Господом Богом, чем вы, ваше величество! И никому не спущу оскорблений!»
Людовик, как монарх и верховный судья, восседавший на троне в красном кафтане и горностаевой мантии, побледнел от такой наглости и сжал рукояти трона. Но Алиенора лишь улыбнулась появлению красавчика Жоффруа, а до сенешаля своей провинции ей в эти минуты и дела не было. Она смотрела за спину графа — там, в окружении анжуйской свиты, появился молодой человек — в таком же, как и граф, черном кафтане; среднего роста, широкоплечий и сильный, с немного вьющимися светло-рыжеватыми волосами.
Но прежде церемониймейстер объявил и его:
— Герцог Нормандии, Генрих Плантагенет!
«Вот какой он, сын Жоффруа, — улыбаясь, думала Алиенора. — Но неужели ему девятнадцать лет? Он выглядит куда старше…» Но что больше всего притягивало ее в нем, это взгляд молодого герцога — упрямый и дерзкий. И этот взгляд, едва Генрих вошел в залу, был направлен на нее — королеву. Оказалась бы она скромницей — оскорбилась бы…
Молодого герцога, с которым ее муж уже начал войну и к которому, соответственно, испытывал явную неприязнь, представили королевской чете.
И Алиенора подарила Генриху улыбку — одну из тех, которые еще в Аквитании, когда она была неопытной девочкой, сводили романтичных мужчин с ума. Теперь же это была улыбка львицы — вырывающей сердце выбранной жертвы. Целенаправленно или мимолетом — по прихоти.
Генрих поклонился. Что же увидел он? Женщину из легенд о короле Артуре. Великая королева, молодая и ослепительная, была еще прекраснее, чем ему говорили. А он был романтичен, этот молодой герцог Нормандский, и, в отличие от Людовика Французского, предпочитавшего общение с Господом на языке псалмов, любил часами слушать песни менестрелей о великих рыцарях и прекрасных дамах. А еще… он хотел увидеть Алиенору, потому что его отец не раз говорил о королеве, которая неслась по равнинам Азии во главе отряда амазонок с луком наперевес. Которая стреляла не хуже заправского охотника и вскружила голову собственному дяде — князю Антиохийскому. Не говоря уж о том, что рыцари-южане табунами ходили за ней. Такой лучше бы и на свет не родиться, добавлял Жоффруа, сколько бы мужчин остались живы! Но она была единственной женщиной, добавлял Жоффруа, ради которой, окажись она безраздельно его, он бы отдал свою жизнь не задумываясь.
И вот теперь молодой Генрих видел эту женщину перед собой — с царственной осанкой и высокой грудью, синеглазую, с лицом ясным и открытым, в ярко-голубом платье, густо расшитом золотом, с золотыми нитями в светло-каштановых волосах, с легким энненом на голове.
И эта королева, ставшая легендой, была так близка от него, что, протяни он руку, коснулся бы краешка ее платья…
Но романтичное настроение, охватившее Генриха, тут же сбил могучий голос Бернара Клервоского, возвращая герцога Нормандии к реальности.
— Ваше высокомерие, граф, преступно, — Бернар, как всегда, был облачен в грубую сутану. Глаза же его горели так, что, казалось, могли запросто поджечь весь маленький дворец города Дрё, где собралась ассамблея. — Мало того что вы дерзким поступком оскорбили вашего сюзерена, но вы еще и оскорбляете церковь, не замечая ее гнева, направленного на вас!
— Меня оскорбили первым, ваше преподобие! — возмутился Жоффруа Красивый. — Этот червь, — он указал пальцем на трепетавшего Жиро де Берле, — должен радоваться, что я не отрезал ему язык за ту хулу, которой он поливал меня! А не отрезал я ему язык лишь из-за уважения, которое испытываю к своему королю! — Жоффруа приторно-любезно поклонился Людовику. — Пока еще испытываю!
Людовика, стоило начаться перепалке, уже лихорадило от гнева. Что до Алиеноры, она вновь мельком взглянула на молодого герцога и тотчас поймала его взгляд, направленный на нее. Алиенора опустила глаза, но на этот раз улыбнулся Генрих.
— Повелеваю вам от имени церкви освободить сеньора де Берле, — грозно приказал Бернар, — и тогда я сам сниму с вас отлучение!
— Прежде я хочу, чтобы мой король извинился передо мной за своего нерадивого слугу! — с гневом воскликнул Жоффруа. — Или пусть сам отрежет ему язык — здесь же, при мне!
Людовик едва не подскочил с трона, а Жиро де Берле, и без того униженный, вжал голову в плечи.
Опомнитесь, граф, — потряс пальцем Бернар Клервоский. — Это преступление — силой удерживать в плену человека своего короля! — Монах обвел взглядом всю ассамблею. — Это великий грех, и об этом знает каждый сеньор! Но вы пленили еще жену несчастного и его детей! Где же мера вашей чести и благоразумия? Призываю вас, не навлекайте на себя еще больший гнев церкви и Господа! Смиритесь, дайте слово отпустить семью де Берле немедленно, и я сейчас же, при всех, сниму с вас отлучение! И прощу вам преступный грех насилия!
— Если держать в плену такого мерзавца, как ваш де Берле, это грех, то я не хочу, ваше преподобие, чтобы мне этот грех отпускали! — зло выдавил из себя Жоффруа Анжуйский. — А его родные и близкие станут для меня гарантией, что мой король, — он встретился взглядом с Людовиком, и электрический разряд пронесся в воздухе, — выполнит мое справедливое требование!
Все бароны, кто это слышал, зароптали — наглость и самоуверенность графа превосходили все доступные границы. Тем более пред очами самого Бернара Клервоского — чести и совести рыцарского века!
— Берегитесь, граф, — умерив тон, но оттого став еще более грозным, произнес Бернар. — Какой мерой вы мерите этот мир, такой мерой вас будет мерить Бог.