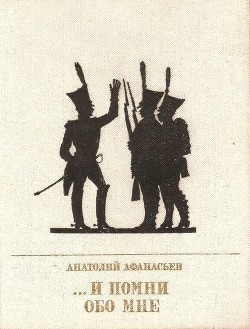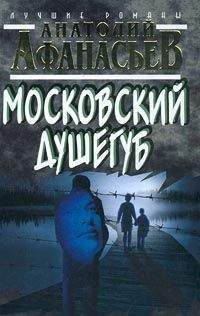Подписал: товарищ начальника главного штаба граф Чернышев».
Но это что, этого мало. Сухинова, злого духа, вынырнувшего неизвестно откуда, следует прихлопнуть покрепче. Срубить под корень. Николай верит в свою железную бюрократическую машину, которая ежели уж запущена, то непременно, хотя и со скрипом, перемелет то, что ей предуказано перемолоть. Однако ему все неймется, все ему чудится какой-то недогляд даже и в собственных действиях. О, этот испепеляющий страх высокопоставленного мелкого человечка за возможную маленькую оплошность, могущую привести к большому упущению, — с чем его сравнить, какое перо способно его описать. Вот еще документ:
«Секретно.
Коменданту при Нерчинских рудниках господину генерал-майору Лепарскому.
Усмотрев из представленного мне донесения кабинета, что ведомства Нерчинских горных заводов в Зерентуйском руднике каторжные в большом числе под предводительством Ивана Сухинова в пьяном виде намеревались произвести возмущение, но по доносу Алексея Козакова были взяты и содержатся под стражею, кроме Василия Бочарова, который скрылся, повелеваю Вам приказать отыскать непременно Василия Бочарова и всех предать немедля военному суду, по окончании коего над теми, кои окажутся виновными, привести в исполнение приговор военного суда по силе § 7 учреждения о действующих армиях и впредь в подобных случаях разрешаю руководствоваться сим же правилом, донося о том начальнику главного штаба моего и министру императорского двора.
Подлинный подписан собственною его императорского величества рукою.
Николай.
В Одессе, 13 августа 1828 года».
Это приказ особого рода, доверительно-предостерегающий. Лепарский, умеющий читать между строк, и обрадовался и струхнул. По этому приказу выходило, что он имеет полномочия вводить военное положение и по своему усмотрению казнить или миловать. Единолично. К тому времени нрав императора ему, съевшему зубы на государевой службе, стал хорошо понятен, и он знал, что миловать ему вряд ли кого придется. Для него лучше десятерых невинных казнить, чем одного злодея помиловать. При этой мысли Лепарский бледно усмехнулся. Впрочем, какие могут быть невинные среди этого отребья. Тут, на каторге, неоткуда им взяться.
Сухинов грезил. Оковы больше не обременяли его, он перестал их чувствовать. Порой он и тело свое ощущал как нечто легкое, воздушное, дунь — полетит. Это было упоительно. Как будто он обрел бесплотность тени. Сны, которые ему теперь снились, высвечивали новыми, лучистыми красками. Он часто бродил в одиночестве по милым с детства полям и лесам Украйны. Погружался в теплые воды, подставлял спину нежному, веселому солнышку. Однажды очутился там, где никогда не бывал наяву. Легкими шагами взбирался он на невысокую гору и сверху с изумлением озирал покрытую пышными цветниками местность. Сплошной зелено-алый ковер расстилался перед ним. Земля дымилась кое-где белесым паром, исторгала диковинные, волнующие ароматы. Окрестность была пустынна и необитаема, но он почему-то знал, что, если спуститься хотя бы вон в тот перелесок, пышущий особенно сочной зеленью, он обязательно натолкнется на что-то необычное, неведомое, счастливое. Ему пить очень хотелось, но он не торопился искать воду — уж очень хорошо было тут, наверху, где легкий, сладковатый ветерок шевелил волосы, словно прикосновение женской, прихотливой в ласках руки. Потом жажда сделалась нестерпимой, и Сухинов начал спускаться вниз, огибая слишком крутые склоны, сторонясь трещин в скалах, откуда нет-нет и высовывались шипящие змеиные головки. Вдруг на одной укромной поляне он заметил мальчугана в белой рубахе, стоящего перед огромным дубом и что-то выковыривающего из коры. Мальчик был худенький, высокий и узкоплечий. Его фигурка дышала таким покоем и тишиной, что жалко было его тревожить. Но Сухинов хотел напиться, потому тихонько, чтобы не испугать, окликнул:
— Эгей, мальчуган, эгей!
Паренек повернулся к нему, не успев спрятать улыбку. Лицо его было бело-розовым и отражало солнечные лучи, как спелое яблоко, налитое соком. Сухинов вздрогнул и застыл на месте, потому что сразу признал мальчугана. Это был он сам, Сухинов, чудеснейшим образом возвращенный из детства и представший на неведомой полянке во плоти и крови.
— Чего тебе, дяденька? — спросил мальчик, нетерпеливо, словно нацелился куда-то бежать, а его остановили. — Ты заблудился?
— Почему — заблудился?
— А здесь у нас такие коварные места. Если не помнишь дорогу, то лучше и не ходи.
— А ты кто? Как тебя зовут? — У Сухинова стеснило дыхание. Мальчик с важностью усмехнулся.
— Ты будто не знаешь.
— Но как же так! Я-то знаю, но как же так?!
— Это мне неизвестно. Этого никто не ведает. Такие места.
Сухинов перевел дух, сделал шаг вперед. Его сжигало нетерпение.
— И мне можно дотронуться до тебя? Подойти и дотронуться? Ты не исчезнешь?!
— Дотронуться можно, отчего же. Какой-то ты чудной, дяденька. Дотронуться можно, только не надо.
— Почему?
Мальчик с досадой повел худенькими плечиками и не ответил. Сухинов и без него знал ответ. Он не собирался до него дотрагиваться. Жажда его скрутила и высушила. Он был счастлив, что этот малыш жив и здоров. Но сейчас главное — напиться побыстрее.
— Иди туда! — махнул рукой мальчуган, и в глазах его на мгновение вспыхнули понимание и сочувствие.
Он побрел, но что-то ноги враз ослабли, мочи не было расставаться.
«Надо бы его приласкать, — думал опустошенно, расслабленно. — Ему какие напасти выпадут, а он улыбается, бедненький. Да кто он-то? Не он, а я! Но как же это? Значит, я остался там на поляне? Или меня вовсе нет? Или нас двое?..»
Была в этом додумывании лихая жуть, но Сухинов не страшился. Душа его улыбалась. Пока мысль не ослепила: «А может, я уж и не живой? И мальчик тот неживой?!» Он побежал вниз, спотыкаясь от нахлынувшей слабости, побежал туда, откуда доносилось успокаивающее похлюпывание воды. Только бы припасть губами, перекатить языком, глотнуть упругий глоток, и все снова прояснится. Как давно он мечтал напиться! Да все не удавалось. Во всю жизнь, кажется, толком не напился ни разу. Теперь бы напоследок не прозевать волшебный миг.
Он достиг звеневшей по камням прозрачной струи и со стоном пал на грудь, открытым ртом жадно потянулся, глаза сощурил — и не успел! Рядом, под рукой было счастье, и вон гибким хвостом махнуло, заизвивалось меж камнями по узкому руслу. Да медленно так, словно маня за собой. Сухинов пополз следом по раскалившейся земле, пытаясь попутно хоть с камушков слизнуть оставшуюся влагу. Нет — не догнать! Иссяк источник. Вот уж и не видно его, непонятно куда свернул, но звуки еще слышны, чарующие, сонные звуки: как музыка самой природы.
Сухинов продолжал ползти и приполз в свою камеру, и очнулся. Холод, слякоть и мрак. Кружку он во сие опрокинул, вода протекла на пол, под доски лежака. Но горя не было у него в сердце. Он лежал умиротворенный и вспоминал привидевшегося мальчонку, себя самого, но уже не старался понять что да как, да почему, — просто рад был чрезмерно, и залетная радость его, случайная гостья, была точно шерстяное, теплое одеяло, укутавшее его с головой. Он хотел бы снова забыться, задремать, может, удастся поспеть в то же самое место, но помешал тюремщик, принесший обед. Он сопел и топтался, дебелый мужик, с широким брюхом.
— Ну чего ты, чего мнешься? — спросил Сухинов. — Не видишь, воду я пролил. Принеси, пожалуйста, пить очень хочу!
— Да уж это да. Это можно. Отчего не принесть. А скоро, видать, еще крепче тебя на питье-то потянет.
Что-то в замечании туповатого стражника Суханова насторожило.
— Чего узнал, что ли? Скажи!
— Говорить-то особо нечего. Но только суд давеча произошел надо всеми злодеями. Вот оно как.
— И чего присудили?
Мужик с сомнением заозирался — надо ли со злодеем откровенничать? А все же и хочется удивить.