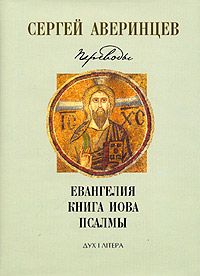– Так в чем же дело?
– А в том, что самый сильный солдат без хлеба, без оружия, без отдыха, без… свободы очень скоро превращается в дохлую клячу. И самая лучшая голова, когда на нее приходится по сто дураков, ничего по может. Нахимов, бедолага, как страдает. Мужественный человек, любящий родину. А различная погань, которую всю жизнь воспитывали в надежде на приказ начальства, на старшего дядьку, – они над ним посмеиваются. Нашли у человека "недостаток", "травит" он в море, хоть и адмирал. Что поделаешь, если организм такой. Он "травит", но с мостика не сойдет, пока дело не доведет до конца.
– Нельсон тоже "травил", – сказал Алесь.
– Правда? – обрадовался граф. – Ну, утешил!
– Я солдат, – продолжал после паузы граф. – Я иду, куда мне приказывают… Но по своей охоте я б туда не просился.
– Почему? – спросил дед.
– Каждый лишний человек – это отсрочка конца.
– Хуже, думаете, не будет? – спросил Вежа.
– Хуже быть не может, – сказал граф. – Хотя бы потому, что каждое новое царствование вначале на несколько лет отпускает гайки, зарабатывает себе доброе имя.
– Чтоб потом сделаться еще хуже. Слышали мы это.
– Однако же несколько лет, – сказал Исленьев, – это очень важно. И потом почти обязательно амнистия. Значит, те, кто жив еще, вернутся. И я встречусь со своей молодостью.
Вежа осторожно подлил графу вина. Старик грустно улыбался.
– Я сегодня слышал пророчество, – сказал он. – Пророчил тут один лапотный Иеремия: "Просвистят они Свистополь".
– Ничего удивительного. Сорокалетнее скверное положение в армии. Почти тридцатилетнее замалчивание общей продажности, слабости, жестокости к простым людям, рабство.
– Все было хорошо, – поддакнул Вежа. – Уж так хорошо, что выяснилось – пороха не было. Умели ходить на парадах и не умели по грязи. Загордились. Всю историю думали наполеоновским капиталом делать…
И снова осень. Снова гимназия. Снова зима с заснеженными вербами над Вилией, с запахом березовых дров. Только теперь Алесь жил с Кирдуном и Логвином. Было бы совсем плохо, если б не "Братство чертополоха и шиповника" да редкие, очень редкие письма от Кастуся и еще более редкие, сдержанные и суховатые, весточки от Майки. Летом почти не виделись – Раубич повез дочь на воды. А разлука и не в такие годы очень редко ведет к лучшему. Забываешь голос, жесты, черты и, наконец, даже то, что лучше всего говорит о дружбе, – неподдельное ощущение человека рядом с собой. У нее, конечно, новые знакомые, новые люди вокруг, новые мысли.
Это было больно.
А потом снова пришла весна. Осел ноздреватый снег. Чудесно синело над городом чистое, с редкими стремительными облаками небо. Облака мчались из-за горы, из-за короткой, будто нарочно усеченной сверху, Гедиминовой башни – два этажа, на которых примостился и нелепо, как жук-плавунец, махал в воздухе лапками оптический телеграф. Передавал неутешительные новости. Весь март и весь май продолжалась ураганная бомбардировка Севастополя, не хватало оружия, гарнизон обессилел и держался лишь благодаря мужеству сердец, сердец – без помощи, без укреплений, без провианта, без обозов. И еще о том, что погибли в июне Истомин и Нахимов, что власть над людьми в руках тех, кто не способен руководить даже собой.
Все чаще у витрин, где вывешивались листы-сообщения с театра войны, можно было услышать хмурое:
– Начальнички, трасца им в бок…
Главного, на голову которого следовало насылать "трасцу", уже не было. Бомбы падали на дома Севастополя весь март и май, рвали поверхность бухты, могилу флота. Но даже отголоска взрывов их не долетело до собора в северном городе, где был похоронен человек гренадерского роста, обладавший при жизни умом обозника.
…Учитель Гедимин после траурного богослужения собрал гимназистов в большом холодном зале и долго молчал, поглаживая свои бакенбарды. Из разреза фалд форменного сюртука торчал носовой платок, который он посчитал нужным вытащить заранее, еще перед началом речи.
– Плакаць будзе зараз… Свидригайло, – как всегда слишком громко, сказал рассеянный Грима.
Ближние ряды грохнули смехом. И это было хорошо, потому что они заглушили смысл сказанного. Гедимина называли Свидригайлом за въедливость и мелочную склочность. Не слишком ли много чести ему было в его настоящем имени? Кое-кто говорил, что и Свидригайлы ему многовато: крамольный князь имел хотя бы собственные мысли и не боялся бороться за них, а этот был верноподданнейшим из верноподданных и вечно гордился тем, что он "истинно русский и всех этих полячков, хохлов-задрипанцев, лягушатников, колбасников, жидов и других инородцев терпеть не может".
– Опять Грима?!-угрожающе спросил Гедимин.
И тогда, понимая, что в такой момент гнев этой падали может стоить Всеславу тройки по поведению, Петрок Ясюкевич сказал:
– Извините, господин учитель. Это я.
– Что такое? – бледно-голубые глаза Гедимина вопросительно смотрели в невинные, искренние глаза Петрака.
Глаза Ясюкевича не умели лгать. Как бы он ни озоровал, они были простыми и честными, эти глаза.
– Ну? – немного мягче сказал Гедимин.
– Я случайно наступил ему на мозоль, – объяснил Ясюкевич.
– Что он сказал?
– Плакаць будзеш зараз… Задрыгайло, – преданно и просто сказал Петрок.
– Х-хорошо, – смягчился Гедимин. – Ваше счастье, Грима.
Подумал.
– А за то, что употребляете мужицкий говор, будете наказаны, Ясюкевич. Пятьсот раз перепишете это по-французски, по-русски и по-немецки.
– По сто шестьдесят шесть и две трети раза на каждом языке, – прикинув в уме, шепотом сказал Матей Бискупович. – Как с двумя третями быть, а?
– Спасибо, Петрок, – на этот раз шепотом сказал Грима, – дешево отделался.
Сашка Волгин, тезка Алеся, подморгнул Гриме:
– Ничего, выручим.
Сашка выделялся среди всех феноменальной способностью подделывать почерк каждого человека так, что тот и сам не отличил бы.
– Гимназисты нашей прославленной гимназии, – тихим и прочувствованным голосом, который дрожал от волнения, начал Гедимин, – большое горе постигло нашу страну. В бозе почил наш император, наш полководец, государь земли русской Николай Павлович, человек большой духовной силы, благодетель всего нашего народа, зиждитель светлого храма нашего будущего и пока что самая светлая личность нашей истории после Петра Великого.
– "Пока что", – буркнул Грима.
– Лиса, – с ненавистью глядя на Гедимина светлыми глазами, сказал Сашка. – В каждом случае такое говори – не ошибешься.
Голос Гедимина сорвался:
– Русский народ в скорби и печали…
– Сашка, – шепнул Алесь, – ты в скорби или, может, в печали, а?!
– В великой, – всхлипнул Сашка. – Просто рыдаю. Хороший был человек. Христианин. Долги за Пушкина пообещал уплатить, если тот на смертном одре исповедается и святые дары примет… Уплатил…
Гедимин смотрел куда-то вверх, глазами, в которых трепетали сердечное умиление и скорбь.
– Он печалится беспредельно… наш… русский… народ…
– А чтоб ты скис! – тихо сказал Сашка.
Грима толкнул его под ребро:
– Тс-с! Посадят в карцер – кто тогда поможет?
Алесь тихо смеялся. Он знал, что это Волгин был зачинщиком истории с Гедиминовой родословной. Собралось несколько хлопцев и сочинили шутливое "древо достоинства" наставника, где самое малое семь предков были все, кто хочешь, только не русские, а отец поляк. Затем Сашка написал письмо почерком Гедимина. А в письме было покаяние в том, что вот до этого времени он, Гедимин, только внешне придерживался православного обряда, а сам считал его ересью и схизмой и больше не желает губить свою бессмертную душу. Тем более что его, Гедиминов, отец был поляк и всю жизнь боролся с неправедным делом митрополита Литовского Есипа Семашки, который зловредно, коварно и методично уничтожал унию. И что он, Гедимин, в этом достойный сын своего отца и просит считать его впредь католиком, тем более что в его, Гедиминовом, дворянском гербе есть крест. А всем известно: если в гербе есть крест – это значит, что предок был выкрестом.
Письмо с родословной отправили виленскому попечителю и стали ожидать, что из этого будет.
Попечитель поверил. Ему показалось, что Гедимин рехнулся. Он вызвал "римского католика и потомка выкрестов" к себе, и там, за плотно закрытыми дверями, произошел бурный разговор с выяснением отношений. Гедимина чуть не хватил удар.
Зачинщиков этого озорства искали, но не нашли.
…Наставник тем временем добрался до последних минут "христианина". Голос дрожал, ладони, поднятые на уровень лица, казалось вот-вот опустятся на глаза, чтобы никто не видел слез, и только чудовищное усилие воли удерживало их.
– Он руководил, как настоящий властелин, он жил, как человек, он любил жену, как христианин. А отходил к предкам, – Гедимин сделал растерянный жест. – На ложе смерти он сказал сыну и преемнику своему: "Служи России, сын мой! Я хотел возложить на свои плечи все трудности, чтоб оставить тебе великую державу, спокойную, упорядоченную, счастливую. Но всевышняя воля рассудила иначе".