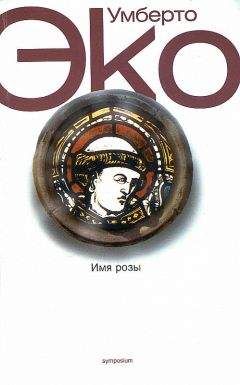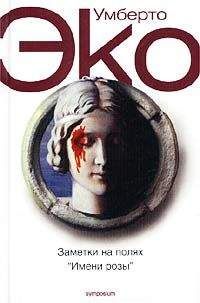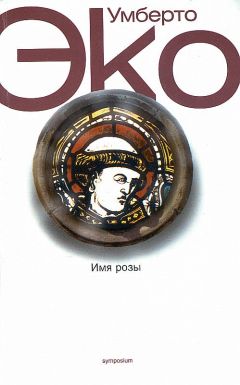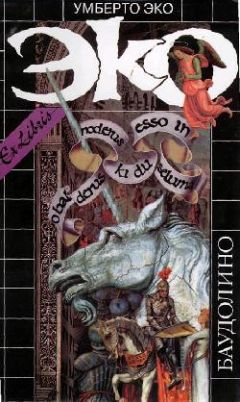«Я погиб!» – сказал я себе. Или: «Я безумный». И понял, что долее в библиотеке оставаться нельзя.
К счастью, лестница была недалеко. Я бросился вниз, рискуя сломать шею и загасить фонарь. Вот широкие своды скриптория; но и там я не стал задерживаться и скатятся по ступеням еще ниже – в трапезную.
И остановился перевести дух. Через окна просачивался лунный свет той сияющей дивной ночи. Здесь я даже мог бы обойтись без фонаря, столь необходимого в закоулках и переходах библиотеки. Однако я не стал его гасить. С ним было как-то надежнее. Но дыхание все не успокаивалось. Я решил попить воды – заглушить тревогу. Кухня была напротив. Я пересек трапезную и медленно приоткрыл створку двери, выходившей во вторую половину нижней части Храмины.
И в этот миг мой страх не только не прошел, а безмерно возрос. Ибо я моментально понял, что на кухне кто-то есть. В самом дальнем углу, у хлебной печи. Прежде всего я увидел, что там мерцает фонарь, и сейчас же в ужасе дунул на собственный. Вероятно, испугался не только я, но и тот, другой (или другие): их светильник тоже погас. Однако свет полнолуния так ярко освещал залу, что я отчетливо видел возле печи, на полу, не то какую-то тень, не то две неподвижные тени.
Похолодев, я не смел шевельнуться. Послышалось шуршание, я вроде бы уловил сдавленный женский голос. Потом от непонятного пятна, черневшего на полу перед печкой, отделилась темная приземистая тень и побежала к наружной двери, которая оказалась не заперта. Выскользнула и захлопнула дверь за собой.
Теперь оставался только я, замерший на пороге трапезной и кухни, и что-то неясное у печи. Что-то неясное и, как бы это назвать? – поскуливающее. Из темной кучи несся тихий писк, что-то вроде полузадушенных рыданий, равномерные всхлипывания насмерть перепуганного существа.
Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого человека. Но не внезапно обретенная смелость повела меня навстречу этому созданию, а что-то иное. Какой-то хмельной восторг, похожий на тот, который овладевал мною во время видений. В кухне витали непонятные запахи, вроде тех дурманных трав, что были в библиотеке. Во всяком случае, на мои перевозбужденные чувства эти запахи оказали точно такое же действие. Я опьянялся терпким духом траганта{*}, квасцов и кремотартара{*}, которые служат поварам для ароматизации вин. К тому же, как я узнал впоследствии, на кухне тогда выстаивалось вересковое пиво. В их стороне, на севере полуострова, это пиво ценилось очень высоко. Варили его по обычаю, завезенному с моей родины: вереск, болотный мирт и розмарин, растущий на лесных озерах. Эти-то испарения, пронзая мои ноздри, доходили до мозга и туманили его.
И поэтому, хотя рациональный инстинкт убеждал меня вскричать «Изыди!» и бежать не оглядываясь от попискивающей груды (поскольку, вне всякого сомнения, это был суккуб, подосланный ко мне нечистым), но что-то в моей vis appetitiva[61] толкало и толкало меня вперед. Какая-то тяга к сверхъестественному.
И я стал все ближе подступать к странной тени, и постепенно в зыбком ночном свете, проходившем сквозь огромные окна, увидел, что это женщина. Трясясь и прижимая к груди какой-то узел, она с плачем отползала к устью хлебной печи.
Господь Бог наш, Пресвятая Матерь Божия и все святые угодники, ныне укрепите меня в решимости рассказать, что случилось в дальнейшем. Стыдливость вкупе с достоинством моего нынешнего сана (в бытности теперь монахом-старцем нашего милого Мелькского монастыря, сего оплота мира, прибежища задумчивости) должны бы понудить меня к благонамереннейшему умолчанию. Мне следовало бы ограничиться сообщением, что совершилось кое-что предосудительное, чего описание тут неуместно, – и не смущать ни себя, ни читателя.
Но я обязался рассказывать о тех давешних делах всю правду. А правда неделима, ее величие – в ее полноте, и нельзя расчленять правду ради нашей пользы или из-за нашего стыда.
Трудность еще и в ином. Следует рассказать все события не так, как я вижу и представляю их себе сейчас (хотя я и вижу и представляю их с неумолимой живостью; угрызения ли совести тому причиной, навеки закрепившие в моем сознании все обстоятельства и все помышления тех минут? Или, напротив, недостаточность угрызений? Но и сейчас, надрывая душу, я ворошу в памяти подробности моего грехопадения). Нет, я должен рассказывать в точности то, что видел и представлял себе тогда, в тот вечер. И я способен сделать это с величайшей точностью, потому что стоит закрыть глаза – и передо мной снова воскресает не только все, что я делал, но и все, что я думал в каждую отдельную секунду. Остается только переписать насвежо, не изменяя ни слова, очень давнюю запись. Так и обязан я поступить, и да хранит меня Св. Михаил Архангел, ибо ради воспитания грядущих читателей и бичевания собственной слабости я намерен поведать, какими путями попадает юноша в силки лукавого, даже когда они и явны и вполне заметны. И пускай тот, кто снова в них попадется, сумеет побороть зло.
Итак, это была женщина. Что я говорю! Девица. Имевши до оных пор (как и, благодарение Господу, с оных пор поныне) мало опыта в обращении с созданиями их пола, я не могу судить, сколько ей было от роду. Знаю только, что она была юна, может быть, шестнадцати, может, восемнадцати весен, но, возможно, и двадцати. Меня сразу изумило жезнеподобие дьявольского призрака… Нет, она не была видением! В любом случае, я почувствовал, что это valde bona[62]. Может быть, потому, что она трепетала как воробушек, и всхлипывала, и страшилась меня.
И тогда, зная, что долг доброго христианина в любых обстоятельствах помогать ближнему, я очень ласково заговорил с нею на самой лучшей латыни и постарался убедить, что меня не следует бояться, потому что я – друг, ну, во всяком случае не враг, никак не враг, которого она опасается.
Очевидно, заметив мой благодушный вид, она перестала плакать и даже подвинулась ближе. Я догадался, что моя латынь ей непонятна, и непроизвольно перешел на родной немецкий. Но она испугалась еще сильнее, не знаю уж чего – то ли резкости звуков, непривычной для обитателей того края, то ли самой немецкой речи, напомнившей ей что-то давнее, связанное с моими соотечественниками-солдатами. Я успокоил ее улыбкой и убедился, что язык движений и глаз гораздо понятнее языка слов. Она снова утихла. И даже улыбнулась и произнесла несколько фраз.
Я почти не понимал, что она толкует. В любом случае, ее наречие сильно отличалось от того местного языка, которому я пытался научиться, живя в Пизе. Но по голосу чувствовал, что говорит она что-то ласковое. Я даже вроде бы уловил слова: «Ты молодой… красивый…» Не часто приводится послушнику, с раннего детства живущему в монастырских стенах, слышать о собственной миловидности. Напротив, нас постоянно остерегают, что телесные совершенства бренны и их следует презирать. Однако хитрости врага неисчислимы – ибо должен признаться, что похвала моей внешности, сколь обманчива ни была, медом влилась в мои уши и бесконечно меня обрадовала. Тем более что девица, хваля меня, протянула руку и подушечками пальцев дотронулась до моей щеки, в то время еще по-детски гладкой.
Я почувствовал будто удар… И все же упорно не замечал, как греховное помышление укореняется в моем сердце. Вот до чего силен нечистый, когда берется искушать нас и губить в нашей душе ростки добропорядочности.
Что я чувствовал? Что видел? Помню только, что в первое мгновение чувства не имели и не могли иметь словесного соответствия, так как ни язык, ни ум не умели именовать ощущения подобного свойства. Я бы в немоте – а затем в памяти всплыли другие сокровенные слова, услышанные в другие времена, в других местах и произносившиеся явно с другими намерениями, – но, несмотря на все это, они дивно сочетались с моим упоением в те минуты, как будто были созданы и составлены именно для меня, для моего счастья. Слова эти долго вылеживались в тайных норах памяти – а ныне, оставив свои укрытия, бились у меня в немом рту, и я уж вспоминал, что в Писании, а также у святых, эти слова предназначались выражать более сиятельные понятия. Да и существовала ли на самом деле разница между восторгами, описанными у святых, и теми, которые испытывал мой растревоженный дух? Я утратил бдительность, понятие о границах, что свидетельствует, очевидно, о погружении в самые глубины собственного существа.
Внезапно девица предстала предо мною той самой – черной, но прекрасной – возлюбленной Песни Песней. На ней было заношенное платьишко из грубой ткани, не слишком благопристойно расходившееся на груди. На шее бусы из цветных камешков, я думаю – самые дешевые. Но голова гордо возвышалась на шее, белой, как столп из слоновой кости, очи были светлы, как озерки Есевонские, нос – как башня Ливанская, волосы на голове ее, как пурпур. Да, кудри ее показались мне будто бы стадом коз, зубы – стадом овечек, выходящих из купальни, выходящих стройными парами, и ни одна не опережает подругу. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» – сорвалось с моих уст. – Волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая губы твои, половинки гранатового яблока – твои ланиты под кудрями твоими. Шея твоя как столп Давидов, тысяча щитов висит на нем». И я спрашивал себя в ужасе и в восхищении, кто же эта стоящая передо мною, блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная, как выстроенные к битве войско.