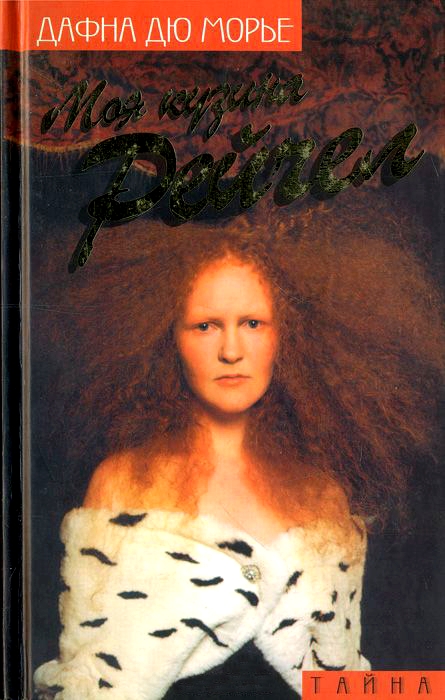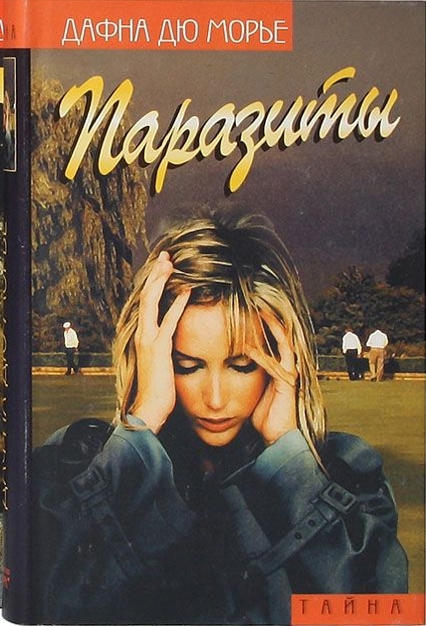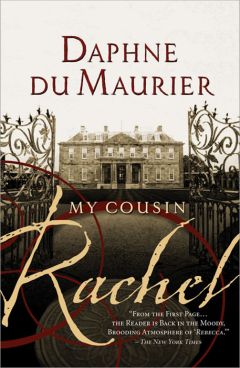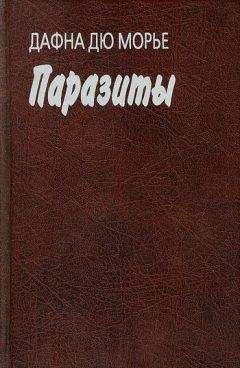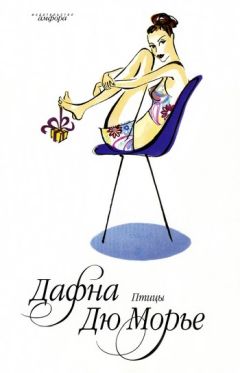склепе, рядом с другими Эшли».
Велев установить ее, он и помыслить не мог, что будет лежать не в семейном склепе, а на протестантском кладбище во Флоренции. На плите он витиеватыми буквами процарапал названия стран, по которым путешествовал, а в самом низу — довольно нескладное стихотворение, которое всякий раз, когда мы вместе смотрели на него, вызывало у нас смех. Возможно, это и глупо, но я верю, что в глубине души Эмброз хотел покоиться здесь; в последнюю зиму, проведенную им за границей, я часто поднимался сюда через лес, чтобы постоять перед глыбой гранита и полюбоваться видом, который он так любил.
Я подошел к гранитной плите и немного постоял, положив на нее руки. Я не мог решиться. Внизу, над трубой дома лесничего, вился легкий дымок, и собака, в отсутствие хозяина сидевшая на цепи, время от времени лаяла в пустоту, может быть, для того, чтобы звуками собственного голоса скрасить одиночество. Яркие краски дня померкли, повеяло холодом. Тучи заволокли небо. Вдали по склону Ланклийских холмов стада спускались на водопой к болотам под лесом; еще недавно искрящиеся в лучах солнца воды бухты потемненли и сделались иссиня-серыми. Легкий ветерок с моря шелестел в ветвях деревьев у меня под ногами. Я сел рядом с плитой и, вынув письмо, положил его на колено вниз адресом. Красная печать, оттиснутая перстнем Эмброза с изображением головы альпийской вороны, приковывала мой взгляд.
Пакет был нетолстый. В нем лежало только письмо. Ничего, кроме письма, которое я не хотел читать. Не могу сказать, какое дурное предчувствие удерживало меня, какой трусливый инстинкт подсказывал, чтобы я, как страус, спрятал голову в песок. Эмброз был мертв, и прошлое умерло вместе с ним. Мне предстояло строить собственную жизнь, следовать собственной воле. В письме могли быть более подробные упоминания о том, что я решил забыть. Эмброз уже называл Рейчел расточительной, он мог вновь употребить этот эпитет или даже привести более убедительные для меня доводы. Должно быть, я и сам за несколько месяцев истратил на дом больше, чем Эмброз за многие годы. И не считал это предательством.
Но не читать письмо… Что он сказал бы на это? Если бы я разорвал его на мелкие клочки, развеял их по ветру и так и не узнал бы его содержания, стал ли бы Эмброз осуждать меня? Я вертел письмо в руках, взвешивал на ладони. Читать или не читать? Боже, как я хотел, чтобы передо мной не стоял такой выбор… Там, дома, моя преданность ей не подлежала сомнению. В будуаре, где я не сводил глаз с ее лица, ловил каждое движение ее рук, ее улыбку, внимал ее голосу, никакое письмо не нарушило бы моего покоя. Но здесь, в лесу, возле гранитной плиты, где мы так часто стояли вместе, я и Эмброз, с той самой тростью в руке, с которой теперь ходил я, в той самой куртке, которую я почти не снимал с плеч, — здесь его власть была гораздо сильнее. Как маленький мальчик молится, чтобы на его день рождения выдалась хорошая погода, так и я обратил к Богу молитву, чтобы в письме не оказалось ничего, способного нарушить мой душевный покой, и… вскрыл его. Оно было датировано апрелем прошлого года и, следовательно, написано за три месяца до смерти Эмброза.
«Мой дорогой мальчик!
Если ты нечасто получаешь от меня письма, то отнюдь не потому, что я не думаю о тебе. Последние три месяца мысли о тебе не покидали меня, и, пожалуй, я вспоминал тебя чаще, чем когда бы то ни было. Но письмо может затеряться или быть прочитано другими; по этой причине я не писал тебе, а когда писал — то, поверь, мне известно, сколь мало ты мог понять из моих слов. Я был нездоров, меня мучила лихорадка, мучили головные боли. Сейчас мне лучше. Не знаю, надолго ли. Лихорадка может возобновиться, головные боли тоже, а когда я оказываюсь в их власти, то не отвечаю ни за свои слова, ни за поступки. Уж это я знаю наверняка.
Но я не уверен в причине. Филипп, дорогой мальчик, я очень встревожен.
И это мягко сказано. Моя душа переживает агонию. Я писал тебе, кажется, зимой, но вскоре заболел и не помню, что сталось с тем письмом. Вполне возможно, я уничтожил его, поддавшись настроению. Кажется, я писал тебе о ее недостатке, который очень беспокоит меня. Не могу сказать, наследственный он или нет, но полагаю, что да, а также думаю, что неудачная беременность причинила ей непоправимый вред.
Кстати, в своих письмах я скрыл это от тебя — тогда мы были слишком потрясены. Что касается меня, то у меня есть ты, и это приносит мне утешение. Но женщина чувствует глубже. Как ты можешь догадаться, она думала о будущем, строила планы, но когда через четыре с половиной месяца все рухнуло, да к тому же врач сказал ей, что у нее больше не будет детей, горе ее было безмерно, гораздо глубже, чем мое. Могу поклясться, она изменилась именно с той поры. Ее расточительность возрастала, и она начала отдаляться от меня. Вскоре я почувствовал в ней склонность к различного рода уловкам, ко лжи. Все это было так не похоже на ее теплоту и сердечность в первое время после замужества! Шел месяц за месяцем, и я все чаще замечал, что за советами она предпочитает обращаться не ко мне, а к человеку, о котором я уже писал в своих письмах, к синьору Райнальди, другу и, как я полагаю, поверенному Сангаллетти. По-моему, этот человек оказывает на нее пагубное влияние. Я подозреваю, что он влюблен в нее еще с той поры, когда Сангаллетти был жив, и хоть я до самого последнего, недавнего времени ни на миг не допускал, что он ей интересен, сейчас я не так в этом уверен. При упоминании его имени на ее глаза набегает тень, в голосе появляется особая интонация, что пробуждает во мне самые ужасные подозрения.
Я часто замечал, что воспитание, данное ей незадачливыми родителями, образ жизни, который она вела до и во время своего первого замужества и который мы оба обходили молчанием, привили ей манеру поведения, весьма отличную от той, что принята у нас дома. Узы брака не обязательно святы.
Кажется, у меня даже есть доказательства того, что он дает ей деньги.
Деньги, да простит мне Господь такие слова, в настоящее время — единственный путь к