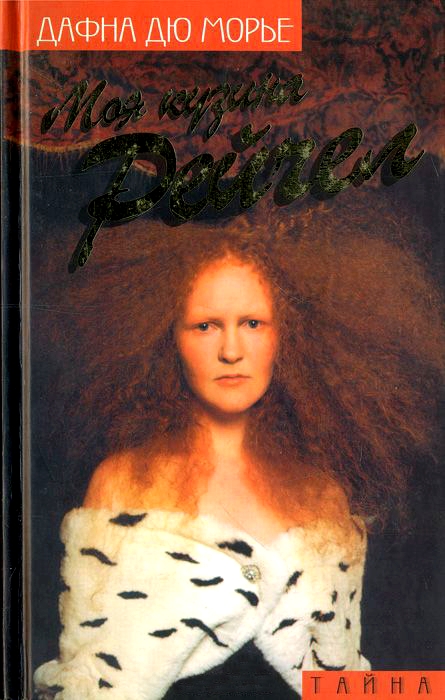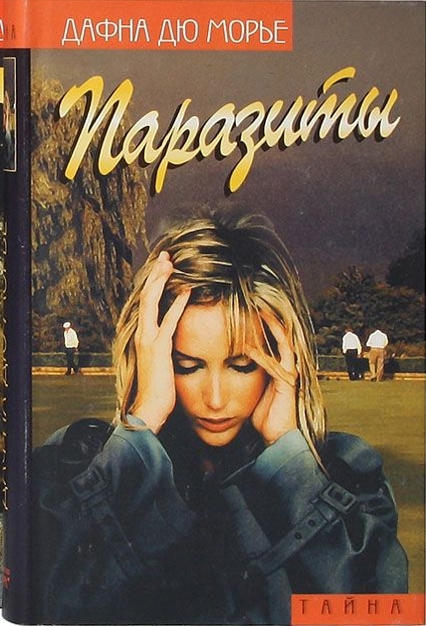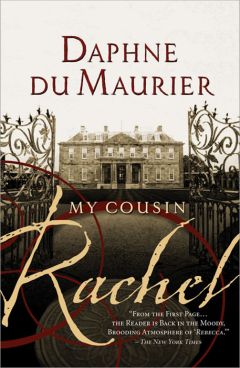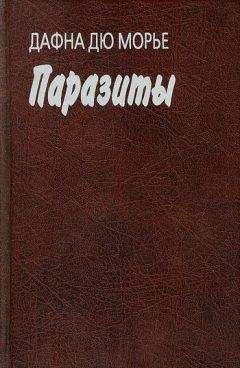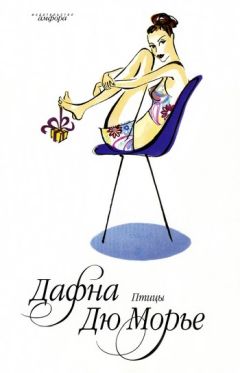ее сердцу. Я уверен: если бы она не потеряла ребенка, ничего подобного не было бы, и всем сердцем сожалею, что послушал врача, когда он отговаривал нас от путешествия, и не привез ее домой. Мы были бы теперь с тобой и жили бы в полном согласии.
Иногда она снова становится собою прежней, и тогда все хорошо, настолько хорошо, что у меня такое ощущение, будто после кошмарного сна я вновь пробудился к счастью первых месяцев нашей совместной жизни. Затем слово, поступок — и вновь все потеряно. Я спускаюсь на террасу и застаю там Райнальди. При виде меня они замолкают, и мне остается лишь догадываться, о чем они беседовали. Однажды, когда она ушла в дом и я остался наедине с Райнальди, он неожиданно резко спросил меня про завещание. Как-то раз он случайно видел его перед нашей свадьбой. Он сказал мне, что при теперешнем положении вещей, если я умру, то оставлю жену без наследства. Я знал об этом и даже сам составил завещание, исправляющее ошибку; я поставил бы под ним свою подпись и засвидетельствовал бы ее, если бы мог быть уверен в том, что ее расточительность — явление временное и не пустило глубоких корней.
Между прочим, по новому завещанию она получила бы дом и имение в пожизненное пользование с условием, что управление ими полностью поручается тебе, а после ее смерти они переходят в твое владение. Оно еще не подписано по причине, о которой я уже сказал тебе.
Заметь, именно Райнальди спросил меня про завещание. Райнальди обратил мое внимание на упущение в том варианте, который сейчас имеет законную силу.
Она не заговаривает со мной на эту тему. Может быть, они обсуждали ее вдвоем? О чем они разговаривают, когда меня нет поблизости?
Вопрос о завещании встал в марте. Признаться, я был тогда нездоров, почти ослеп от головной боли, и, быть может, Райнальди, со свойственной ему холодной расчетливостью, заговорил о нем, полагая, что я могу умереть.
Возможно, так оно и есть. Возможно, они не обсуждали его между собой. Я не могу это проверить. Я часто ловлю на себе ее взгляд, настороженный, странный. А когда я обнимаю ее, у меня возникает чувство, будто она чего-то боится. Но чего… кого?
Два дня назад, что, собственно, и побудило меня непременно написать тебе об этом, со мной случился приступ той же лихорадки, что свалила меня в марте. Совершенно неожиданный приступ. Начинаются резкие боли, тошнота, которые вскоре сменяются таким возбуждением, что я впадаю в неистовство и едва держусь на ногах от слабости и головокружения. Это, в свою очередь, проходит, на меня нападает неодолимая сонливость, и я падаю на пол или на кровать, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Не припомню, чтобы такое бывало с моим отцом. Головные боли — да, некоторая неуравновешенность — да, но не остальные симптомы.
Филипп, мальчик мой, единственное существо в мире, которому я могу довериться, скажи, что это значит, и, если можешь, приезжай ко мне. Ничего не говори Нику Кендаллу. Ни слова не говори ни одной живой душе. Но главное — ничего не пиши в ответ, просто приезжай. Одна мысль преследует меня и не дает мне покоя. Неужели они пытаются отравить меня?
Эмброз».
Я сложил письмо. Собака внизу перестала лаять. Я слышал, как лесничий отворил калитку и пес заскулил, приветствуя хозяина; услышал голоса в доме, стук ведра, шум закрывшейся двери. С деревьев на противоположном холме поднялись галки. Громко крича, они покружили в воздухе, темной тучей перелетели к деревьям у болота и уселись на их верхушках.
Я не разорвал письмо. Под гранитной плитой я выкопал ямку, вложил письмо в записную книжку и похоронил ее глубоко в темной земле. Я разровнял землю руками, спустился с холма, миновал лес и вышел на нижнюю аллею.
Окольным путем поднимаясь к дому, я слышал смех и болтовню людей, возвращавшихся после работы домой. Я немного постоял, наблюдая, как они устало бредут через парк. Леса на стене дома, где они работали весь день, выглядели безжизненными и голыми. Я вошел в дом через черный ход со двора, и, как только мои шаги застучали по каменным плитам, из комнаты дворецкого мне навстречу вышел Сиком. У него было испуганное лицо.
— Как я рад, что вы наконец вернулись, сэр, — сказал он. — Госпожа давно спрашивает вас. С беднягой Доном беда. Госпожа очень встревожена.
— Беда? — спросил я. — Что случилось?
— С крыши на него упала большая плита шифера. Вы ведь знаете, в последнее время он почти оглох и все лежал на солнышке под окнами библиотеки. Шифер, должно быть, упал ему на спину. Он не может двигаться.
Я пошел в библиотеку. Рейчел сидела на полу, держа на коленях голову Дона. Когда я вошел, она подняла глаза.
— Они убили его, — сказала она. — Он умирает. Почему вы так задержались? Если бы вы были здесь, этого не случилось бы.
Ее слова отозвались в моей душе эхом чего-то давно забытого. Но чего именно, я не мог вспомнить.
Сиком вышел, и мы остались одни. По ее лицу текли слезы.
— Дон принадлежал вам, и только вам, — проговорила она. — Вы выросли вместе. Мне невыносимо видеть, как он умирает.
Я подошел и опустился рядом с ней на колени. Я сознавал, что думаю не о письме, погребенном глубоко под гранитной плитой, не о бедном умирающем Доне, чье обмякшее, вытянувшееся тело неподвижно лежало между нами. Думал я только об одном. О том, что впервые с тех пор, как Рейчел приехала в мой дом, она скорбит не об Эмброзе, а обо мне.
Мы просидели с Доном весь вечер. Я пообедал, Рейчел кусок не шел в горло. Дон умер незадолго до полуночи. Я вынес его и накрыл труп: мы решили вместе похоронить его на следующий день в саду. Когда я возвратился, библиотека была пуста — Рейчел поднялась наверх. Я прошел по коридору в будуар. Она сидела, устремив взгляд в огонь, глаза ее были влажны. Я сел рядом с ней и взял ее руки в свои.
— Я думаю, он не страдал, — сказал я. — Думаю, он не чувствовал боли.
— Пятнадцать долгих лет… — сказала она. — Маленький десятилетний мальчик в свой день рождения открывает праздничный пирог, и он лежит в нем, положив голову на лапы. Эта сцена часто стоит у меня перед глазами.
— Через три недели, — проговорил я, —