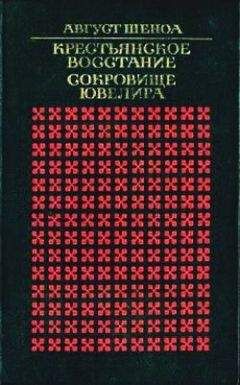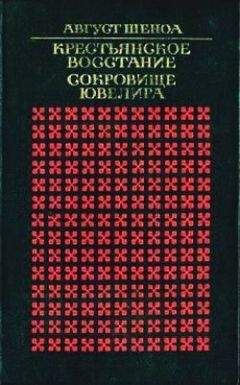Заключенный с сокрушенным сердцем исповедался во всех своих грехах, я их отпустил, подкрепил его пищей небесной и молился с ним целую ночь на коленях. Настало воскресенье. В утреннем воздухе разливался колокольный звон, в котором слышалось рыдание погребального перезвона. В тюрьму вошла стража, и тюремщик крикнул: «Идем! Пора!» Еще раз склонился передо мной заключенный, и еще раз простер я над ним благословляющие руки. Окруженные стражей, мы вышли из тюрьмы. На площади перед церковью св. Марка стояла такая толпа, что яблоку негде было упасть; все окна и крыши были полны любопытных. Впереди нас шел городской судья с жезлом, за ним мы, окруженные двумя рядами стражников, с нами же шел закованный крестьянин Пасанац, а за нами палач в красном одеянии и его помощники. Осужденный гордо поднял голову и глядел поверх любопытной толпы, которая, напирая, шептала:
«Смотрите, это Губец, мужичий король!»
Посреди площади было открытое место, оцепленное войсками бана, и там был разложен костер и установлено колесо. Когда мы туда пришли, судья выступил, поднял жезл и провозгласил:
«Слушайте все! Перед вами стоит Матия Губец, кмет из Стубицы, разбойник, злодей и бунтовщик, чья преступная рука поднялась против божеского и человеческого закона, против короля и дворян. С ним и Андрия Пасанац, его сообщник, такой же злодей, как он. Но правда восторжествовала, и свершился суд над злодеями. Пасанац будет сперва колесован, а потом ему отрубят голову. Матия же Губец, извращенная рабская душа которого дерзнула играть в короля, пусть примет и королевские почести: на раскаленном троне его венчают раскаленной короной а потом подвергнут четвертованию».
Губец побледнел, вздрогнул, стиснул зубы и посмотрел на народ. Народ заволновался, а судья бросил сломанный жезл к ногам осужденных и крикнул: «Палач! Они твои, бери их!»
Пасанац расцеловался с Губцем, стал передо мной на колени, смотря в землю, и не успел я его благословить, как палачи накинулись на него и в одно мгновение положили на колесо, на котором торчали острые шипы. Палач высоко взмахнул ломом и переломил Пасанцу кости на руках и ногах, в двух местах. При каждом ударе воздух оглашался душераздирающим криком, вырывавшимся из посиневших, дрожащих губ крестьянина. Вскоре его сняли с колеса, и когда раздробленная человеческая масса упала на землю, помощник палача ухватил Пасанца за волосы, палач взмахнул мечом и показал народу окровавленную голову.
Все это время Губец, бледный и безмолвный, как камень, глядел на народ, и только при каждом крике товарища на глазах его показывались слезы.
«Отец духовный, теперь очередь за мной, – прошептал он, когда окровавленный труп рухнул на землю, – помоги мне бог! Помоги бог народу!» Палач приблизился, по Губец махнул рукой: «Отойди, я хочу помолиться. Благослови меня, отец!»
Он преклонил колени, перекрестился и сказал громким голосом:
«Боже! Поддержи и укрепи меня! Сделай так, чтоб с телом не погибла и душа. Я восстал за правду и свободу, за них и умираю. Всем прощаю… и Тахи и Грегорианцу. Благослови меня, отче!»
Я положил ему руку на голову, а у самого словно земля из-под ног уходит. «Иди с миром, сын мой, грехи твои тебе отпускаются», – сказал я.
«Аминь», – прошептал осужденный. Палач схватил его и стал сдирать с него одежду. Силой посадил его на трон из раскаленного железа. Щеки Губца покраснели, он затрясся. Палач подошел с раскаленными клещами и начал рвать кусками мясо на руках, ногах и оголенной груди. С каждым разом обнажалась кровавая рана, тело вздрагивало, лоб покрывался крупными каплями пота, а из груди вырывался глухой стоп. Наконец палач клещами вынул из огня корону из раскаленного железа.
«Эй, король, вот тебе корона!» – крикнул он и опустил ее на голову Губца. Кожа лопнула, брызнула кровь вздрогнули помертвелые губы, смертельная бледность разлилась по всему лицу; он еще раз взглянул на меня и прошептал: «Прощай, отец!» И из глаз его градом полились слезы.
Я бросился бежать. Вся кровь во мне кипела, на лбу выступил пот, и по телу пробегали мурашки. Я бежал, как пьяный, как безумный. В келье я бросился на колени, хотел молиться – и не мог. Упал на пол и плакал, плакал всю ночь до зари. О боже мой! Зачем ты дал мне дожить до этого дня, который разбил мне сердце, расстроил нервы, отравил душу; зачем ты мне дал увидеть предсмертный взгляд окровавленных очей, взгляд, который будет терзать меня до конца моих дней. Степан, слышал ли ты эту кровавую повесть? Понял ли ты весь ужас этих страшных мгновений? Слушай, трусливая ты душа! Я тебе принес привет и прощенье от мужичьего короля! Сгорай от стыда, ничтожный вельможа! Погляди на нашу несчастную родину, пересчитай опустелые пожарища, окровавленные трупы плачущих матерей и жен и, сгорая со стыда, трепещи и содрогайся. Ты всему виной, несчастный клятвопреступник, ты и твой изверг Тахи. Каждый шаг ваш в крови, над вашими головами тяготеет проклятье. На колени, великий вельможа и великий грешник! Кайся денно и нощно, потому что грехов твоих – что песку в море, что капель в океане. Обрати свое гордое сердце к народу, залечи его раны бальзамом, постарайся быть достойным образа божьего, который ты носишь на себе. Подле тебя – ангел сущий, жена твоя. Склонись под ее крыло. Кайся! Прежде чем минет год, я снова приду из своего монастырского заточения и либо отпущу тебе грехи, либо прокляну тебя навеки!
Монах ушел, а Грегорианец остался один в своей мрачной комнате, коленопреклоненный, бледный, с поникшей головой и сложенными руками. И долго так стоял он на коленях, дрожа от страха, потому что из темноты на него был устремлен предсмертный взгляд мужичьего короля.
Под горой близ Пишеца стоит высокий деревянный дом с крыльцом. Это дом Освальда. Ночь, темно, из-за черных туч едва пробивается луна. У крыльца, возле дороги, стоит вооруженный крестьянин-хорват и держит двух коней, – это Гушетич. На крыльце женщина с ребенком на руках; рядом с ней мальчик. Она склонилась к стоящему на ступеньках коренастому хорвату – Илии. В одной руке он сжимает ружье, а другой обвил стан женщины.
– Жена! Родная! – шептал Илия. – Все пропало, все. Губец погиб. Брата моего повесили в Брежицах, Тахи сжег наш дом. Я едва спас голову. Предал нас проклятый злодей Дрмачич, предал и Ножина. Здесь я не могу оставаться. Меня преследуют, надо бежать, иначе я погиб. Не о себе я беспокоюсь, а о тебе, Ката, и о наших невинных детях. Пойду по направлению к Турции. Там кипит битва! Там меня никто не знает. Как только накоплю малую толику, убегу к венецианцам. На, возьми этот кошелек с золотом. Береги его!
– Илия! Друг мой! – плакала женщина в отчаянии. – Как я, несчастная, останусь без тебя, жизнь моя? Что скажу я детям, когда они будут спрашивать об отце? Ох, останься, иначе, как бог свят, я пропала. Нет, нет, беги, беги, ради бога! Тебя могут поймать и убить… ох, зачем меня только мать родила!
– Прощай! – прошептал Илия. – Прощай! – Он поцеловал ребенка, потом взял голову старшего мальчика, прижал свои губы к его невинному лбу и, обняв жену, долго не выпускал ее из своих объятий, словно расставался с ней навеки.
– Прощай! – пробормотал он сквозь слезы. – Прощай, родная, до встречи!
– Прощай… прощай! – рыдала в темноте Ката, крепче прижимая ребенка, когда оба всадника уже скрылись во мраке.
И снова ночь. По дороге, около замка Ясеновац, спешат два пешехода – Грегорич и Гушетич. Коней они оставили в Загорье у знакомого дворянина Розалича с просьбой вернуть их штирийскому священнику, боясь, что верхом они будут слишком заметны. Идут они быстро, не говоря ни слова и зорко глядя перед собой. Из страха быть опознанными ускоками – их здесь великое множество – они обходят села, огоньки которых блестят вдалеке.
– Илия, ты голоден? – спросил Гушетич.
– Да, но стараюсь не думать об этом.
– А я не могу: и голод и жажда жгут утробу.
– Потерпи, мы недалеко от границы; там сможем досыта наесться на счет турок.
– Да, а до тех пор подохнуть тут с голоду?
– Да ты что, баба, что ли? Разве ты не знаешь, что ищут наши следы? Возьми себя в руки.
– Не могу. Я не баба, но и не птица небесная, которую бог питает.
– Что ж ты хочешь? Попасться им в лапы?
– Нет. Слушай. Там, за лесом, есть одинокая корчма. Я ее знаю с давних времен. Про нее ходят дурные слухи, это место сборища гайдуков. Зайдем туда. Напьемся, поедим, выспимся до утра, и я опять буду в своей тарелке.
Илия немного замялся, потом согласился.
– Идем, – сказал он, – пусть будет по-твоему, только бы не было беды.
– О какой беде ты говоришь, – и Гушетич засмеялся, – есть и пить беда, что ли?
Оба крестьянина окольными путями зашагали быстрее. Луна стояла высоко, и вдали на фоне неба вырисовывались сухие деревья и красная точка меж стволов – огонек корчмы. Туда они и направились через поле и вскоре исчезли за деревьями.