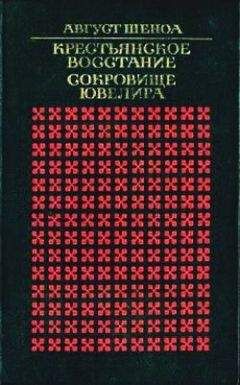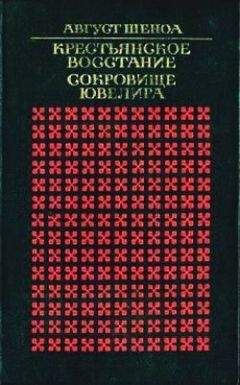– Илия! Друг мой! – плакала женщина в отчаянии. – Как я, несчастная, останусь без тебя, жизнь моя? Что скажу я детям, когда они будут спрашивать об отце? Ох, останься, иначе, как бог свят, я пропала. Нет, нет, беги, беги, ради бога! Тебя могут поймать и убить… ох, зачем меня только мать родила!
– Прощай! – прошептал Илия. – Прощай! – Он поцеловал ребенка, потом взял голову старшего мальчика, прижал свои губы к его невинному лбу и, обняв жену, долго не выпускал ее из своих объятий, словно расставался с ней навеки.
– Прощай! – пробормотал он сквозь слезы. – Прощай, родная, до встречи!
– Прощай… прощай! – рыдала в темноте Ката, крепче прижимая ребенка, когда оба всадника уже скрылись во мраке.
И снова ночь. По дороге, около замка Ясеновац, спешат два пешехода – Грегорич и Гушетич. Коней они оставили в Загорье у знакомого дворянина Розалича с просьбой вернуть их штирийскому священнику, боясь, что верхом они будут слишком заметны. Идут они быстро, не говоря ни слова и зорко глядя перед собой. Из страха быть опознанными ускоками – их здесь великое множество – они обходят села, огоньки которых блестят вдалеке.
– Илия, ты голоден? – спросил Гушетич.
– Да, но стараюсь не думать об этом.
– А я не могу: и голод и жажда жгут утробу.
– Потерпи, мы недалеко от границы; там сможем досыта наесться на счет турок.
– Да, а до тех пор подохнуть тут с голоду?
– Да ты что, баба, что ли? Разве ты не знаешь, что ищут наши следы? Возьми себя в руки.
– Не могу. Я не баба, но и не птица небесная, которую бог питает.
– Что ж ты хочешь? Попасться им в лапы?
– Нет. Слушай. Там, за лесом, есть одинокая корчма. Я ее знаю с давних времен. Про нее ходят дурные слухи, это место сборища гайдуков. Зайдем туда. Напьемся, поедим, выспимся до утра, и я опять буду в своей тарелке.
Илия немного замялся, потом согласился.
– Идем, – сказал он, – пусть будет по-твоему, только бы не было беды.
– О какой беде ты говоришь, – и Гушетич засмеялся, – есть и пить беда, что ли?
Оба крестьянина окольными путями зашагали быстрее. Луна стояла высоко, и вдали на фоне неба вырисовывались сухие деревья и красная точка меж стволов – огонек корчмы. Туда они и направились через поле и вскоре исчезли за деревьями.
Через каких-нибудь четверть часа к месту, откуда ушли крестьяне, подъехали всадники: один, в широкополой шляпе, был, по-видимому, офицер, рядом с ним ехал маленький человечек, надвинувший поля шляпы так, что лица его не было видно, и с ними четыре ускока. Отряд остановился посреди дороги.
– Вернемся, – сказал недовольно офицер, – что ты нас мучаешь здесь, в грязи и в снегу? Брось ты Илию, его и сам черт не выследит. Бог знает, где он. Наверно, в плену у турок. Крутимся и вертимся, идем за тобой, как медведи за поводырем. И все зря. Вернемся.
– Нельзя, господин поручик, – запротестовал человечек, – сколько мук мы претерпели, чтоб напасть на их след, и почти что настигли их у Пишеца, где живет жена Илии. Они должны были недавно здесь пройти; ведь они, дураки, теперь идут пешком. Вам хорошо известен приказ господина Турна. Мы должны их изловить. Погодите-ка, – продолжал он, спрыгивая с коня, – дайте-ка погляжу. Так и есть, два мужских следа в снегу. Это они. Тут вот повернули в поле, – и он нагнулся. – Повремените здесь немного и подержите моего коня. Я пойду по следам, чтоб посмотреть, куда они приведут.
– Иди и убирайся к черту, – пробормотал поручик, закутываясь в плащ, – а ты, Иван, подержи коня этого мошенника.
Человечек, смотря себе под ноги, направился полем к лесу, а всадники, оставшись на дороге и напевая под нос песенку, глядели ему вслед. Через четверть часа маленькая фигурка снова показалась у опушки и быстро зашагала по полю.
– Ага, вот он! – сказал Иван. – Жаль, что дорогой не свернул себе шеи. Шпион!
Человечек подбежал.
– Так и есть, – крикнул он, – у меня нюх хороший. Они там, в корчме за лесом.
– Ты уверен, что это они? – спросил офицер.
– Живы-живехоньки! – подтвердил человек. – Я сам видел их снаружи через окно. Идем. Но оставьте коней у леса, чтоб негодяи по топоту не могли догадаться.
Маленький отряд поскакал к лесу. Тут они привязали коней к деревьям, и один из них остался сторожить. Вскоре они достигли корчмы.
– Окружим ее, – сказал человечек.
Ускоки и офицер заняли позиции вокруг уединенного дома. Человечек потащил офицера за руку и тихонько подвел его к окну.
– Поглядите-ка, господин офицер! Вон сидят за столом и едят. Усатый – это Илия. Его надо взять живым, а другой – Гушетич. Того можете и зарезать, так, между делом.
Крестьяне сидели спиной к окну. Стекло зазвенело, треснуло, и в комнату влетела пуля. Они вскочили, схватили свои ружья и прицелились из окна, перед которым стояло двое ускоков, спрятавшись за деревья.
– Кто там, черт тебя дери? – крикнул Илия и выстрелил; ускоки ответили, но холостыми зарядами. Во время этой перестрелки за спиной крестьян тихонько отворилась дверь, и офицер с ускоками, словно рыси, накинулись на них сзади. Бой был короткий. Вскоре крестьяне, связанные по рукам и ногам, лежали на грязном полу корчмы, а корчмарь преспокойно наливал вино офицеру и ускокам.
– А кто мне заплатит за вино, что выпили эти негодяи? – спросил он.
– Я, – сказал, усмехаясь, Дрмачич, который появился, как только увидел, что крестьяне связаны, – я заплачу за своего приятеля Илию. Добрый вечер, кум, как поживаешь? Не видались с Севницы.
– Собака! – проскрежетал Илия.
– Э, брат, – и ходатай встал перед ним, – жаль мне твою драгоценную голову, но еще больше я оплакивал бы пятьсот талеров, которые мне обещал за нее господин Турн.
Он подсел к Ивану.
– Вот твоя награда! – сказал офицер, бросая шпиону кошелек, полный талеров; тот принялся считать серебреники и наконец, смеясь, сказал:
– Полных пять сотен! Точно. Большая цена за голову. Не правда ли, Иван? На вот тебе несколько скуди.
– Иуда! – пробормотал Иван, отодвигаясь от маленького ходатая. – Не прикасайся к честному человеку.
В начале 1573 года закончилась с грехом пополам ожесточенная тяжба, тянувшаяся почти десять лет и стоившая хорватскому народу столько слез и крови. Медлительное правосудие, запятнанное взятками и пристрастием, тогда только провозгласило свое решение, когда все королевство уже пылало, когда сами судьи испугались за последствия своей несправедливости. Когда из тысячи грудей, попранных злобой Тахи, вырвался вопль отчаяния, когда перед всеми разверзлась страшная бездна, когда потрясены были и закон и суд, а оскорбленное достоинство крестьянских масс попыталось уничтожить все привилегии дворянства, только тогда дворяне покинули партию Ферко Тахи. Сам он, среди всеобщего возбуждения, с ожесточенным и гневным сердцем, с разбитым телом, скованный болезнью, сидел одиноко в замке Сусед, как волк в своей берлоге. В нем кипела злоба, и в ярости он глядел с высокой башни, как весь край, до самого горизонта, был объят пламенем крестьянского гнева. И еще больше возросла в нем ярость, когда ему было объявлено баном, что суд желает, а король, под угрозой немилости, требует вернуть замок старой Хенинг, которая боролась с ним не на жизнь, а на смерть и которая смертельно оскорбила надменного аристократа, обещав выдать свою дочь за его сына, а потом отдав ее за неизвестного и неимущего дворянина. Комиссары снова ввели Уршулу в Сусед. Вступая в замок, из которого ее выгнало беззаконие, гордая вдова высоко держала голову, а на ее губах дрожала злорадная усмешка. Тахи же сидел у своего камина с поникшей головой, уставившись в гладкий каменный пол, и от злости скрежетал зубами. Теперь два врага жили под одним кровом, два озлобленных сердца кипели в одном аду.
Только один еще раз Тахи показался на людях. 18 февраля 1573 года, через несколько дней после казни Губца, в Загребе заседал сабор королевства Далмации, Хорватии и Славонии, и в момент, когда дворяне разбушевались, на собрание вдруг приплелся на костылях, поддерживаемый своим сыном, седоволосый, сморщенный старик с пожелтевшим, поблекшим лицом. Это был Тахи. Шум сразу смолк, и по собранию пробежал шепот. Старик остановился перед стоявшим на возвышении креслом бана Драшковича. Бан, поглаживая бороду, сердито устремил на Тахи свои колючие глаза. Подняв кверху худую правую руку, Тахи заговорил дрожащим голосом:
– Вельможный, достопочтеннейший господин бан! Благородные сословия и чины! Перед вами стоит изнемогающий, слабый старик, который обращается к вам как к верховному судилищу этой страны и ищет у вас правосудия. Я достоин вашей защиты, потому что верой и правдой служил трем королям, потому что моя рука изнемогла, рубя саблей врагов родины. Вспомните все лютые схватки, и вы увидите, что в каждой из них Тахи проливал свою кровь. Теперь я уж только старое, высохшее дерево. Мое единственное желание – мирно провести последние дни моей бурной жизни под своим кровом и умереть спокойно. Но враги не хотят этого. Они подняли топор на меня, на сухой, истлевающий пень. Мне трудно много говорить. Да и вам известно, о чем я прошу. Когда злобствующие люди возбудили против меня ярость крестьяп, комиссары силой ввели госпожу Уршулу Хенинг во владение половиной моего имения. Я повторяю – моего имения, потому что я купил его за свои деньги. Это несправедливость, вопиющая несправедливость! Мало того что меня грабили, жгли и штрафовали, что мне угрожала смерть, – приходится еще с ними делиться. Я повторяю, что это несправедливо, – и старик в гневе закачал головой, – я не признаю комиссаров, я признаю только ваш высокий суд. Будьте справедливы, верните мне то, что мне принадлежит. Я протестую против насилия, хотя бы и королевского!