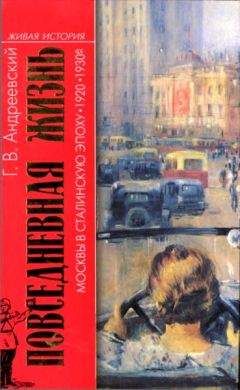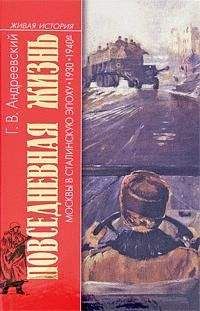В Бутырской тюрьме находилось более ста поляков. Им отвели отдельный коридор. Они вывесили в нем свой герб, открыли театр, в котором ставили пьесы на польском языке. Короче говоря, создали свой обособленный мир со своим языком, обычаями и порядками. Других обитателей тюрьмы это возмутило, они устроили скандал, стали поляков бить. В результате польской тюремной республике пришел конец.
Рядом с «коммунистическим» тринадцатым был четырнадцатый коридор. В нем сидело немало евреев. При наступлении какого-нибудь религиозного праздника одна из камер превращалась в синагогу. «Надо было видеть, — писал Бройде, — тот азарт, то надрывное рыдание, которое возносилось в молитвах евреями. «Ссудный день» в тюрьме для верующих евреев превращался в обращение к Богу о пощаде. В этот «скорбный» по ритуалу день Богом решались судьбы людей, то есть от него исходили в Чеку приказы об ордерах на свободу. Это могло показаться смешным, но как часто слышал я именно такую примитивно построенную молитву. В «еврейской» камере десяток-другой молящихся составлялся из малокультурных ортодоксальных евреев. Над ними зло, открыто издевались евреи-интеллигенты. За это их бесцеремонно на время молитвы выталкивали из временной синагоги.
Православным священникам из заключенных давали возможность устраивать служение в тюрьме, в коридорах. Служили они и всенощные».
В тюрьме существовал театр. Бройде стал его главным режиссером. Поставил «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. В спектакле принимали участие и мужчины, и женщины. Арестанты были благодарными зрителями. Люди тянулись к искусству.
В книге «Фабрика человеков» (так именуется тюрьма), написанной не Бройде, а, согласно «Словарю псевдонимов», Игорем Силенкиным, автор отбывал наказание в Таганской тюрьме и руководил там самодеятельным театром. Спектакли ставились в тюремном клубе, под который была отдана церковь, расположенная рядом с тюрьмой в Малых Каменщиках. Зрительный зал был рассчитан на триста человек. Помимо двадцати мужчин в нем играли женщины — соучастницы бандитов, хозяйки квартир («хаз»), проститутки. В тюремном клубе шли спектакли и концерты, поставленные не только силами самодеятельности, но также профессионалами московских театров: Малой оперы («Кармен»), Еврейского, Украинского. Выступали в нем Шаляпин, Москвин и другие прославленные артисты.
И вообще, демократические порядки в советских тюрьмах двадцатых годов были гордостью работников МВД. В разговорах с журналистами они непременно отмечали, что в них не бреют голов, нет колпаков и серых халатов с бубновыми тузами, нет карцеров и лишения горячей пищи, что в них предоставляют отпуск заключенным, вставшим на путь исправления, и т. д.
Вернемся теперь из Таганки в Бутырку. Соломон Оскарович описывает концерты «на карантине», которые давали вновь поступившие заключенные, имеющие вокальные способности. Особенно шумным успехом пользовались профессиональные певцы, которых превратности судьбы заносили в тюремные стены. Певцы становились на подоконник карантинной башни, просовывали голову сквозь решетку и пели. Окна камер, выходящих во двор, облепляли заключенные. Они тихо слушали и громко аплодировали, чем радовали артистов, не все из которых были избалованы таким успехом, какой им дарила тюрьма.
Помимо самодеятельного драматического театра, пения среди заключенных, прежде всего, конечно, уголовных, процветала чечетка. Каждый уважающий себя налетчик умел ее отбивать. Наряду с татуировкой она была непременным его атрибутом. В тюремных камерах можно было слышать, как блатные разучивают перенятые ими друг у друга новые коленца модного танца. Если любовь к чечетке была присуща по большей части преступникам, так сказать, активного действия: налетчикам, хулиганам, то преступникам, использующим в своей деятельности интеллект, — мошенникам, аферистам — были ближе куплеты, рассказы, байки. Активной творческой жизни в тюрьмах способствовало то, что по распоряжению В. И. Ленина от 30 июня 1920 года проведение культурно-массовой работы в тюрьмах было поручено Наркомату просвещения, а нравы в этом наркомате были мягче, чем нравы в Наркомате внутренних дел. Правда, и в последнем еще не сформировалось той суровости, о которой мы привыкли слышать.
В двадцатых годах в Москве издавался журнал «Тюрьма». В опубликованной в нем «Исповеди» бандита «Культяпого», возглавлявшего банду «ткачей» и выданного муровцам своим соратником по кличке «Архиерей», были такие слова:
На воле жил я — бить учился,
В тюрьму попал — писать решился.
Вот вся история моя…
Я — молодой бандит народа,
Я им остался навсегда.
Мой идеал — любить свободу,
Буржуев бить всех, не щадя.
Меня учила мать-природа,
И вырос я среди воров.
И для преступного народа
Я всем пожертвовать готов.
…Я рос и ждал, копились силы
И дух вражды кипел сильней.
И поклялся я до могилы
Бороться с игом нэпачей.
В этом стихотворении интерес преступника совпал с классовой ненавистью строителей новой жизни. Может быть, такие совпадения в какой-то степени способствовали тому, что длительное время, почти все второе десятилетие, меры наказания уголовным преступникам были не столь суровы, ведь большинство их имело пролетарское происхождение.
В ноябре 1923 года бандиты ограбили квартиру нэпмана на Пречистенском бульваре и были схвачены на месте преступления. Один из них, Спасокукотский, интеллигентный молодой человек, сын врача и студент юридического факультета, на суде развивал теорию о том, что нельзя грабить государственную собственность, что же касается частной, то она может быть экспроприирована в зависимости от относительной полезности ее обладателя. Психиатры признали Спасокукотского психически больным, и суд направил его на принудительное лечение. Им почему-то показались странными рассуждения подсудимого о дозволенности ограбления обладателей частной собственности.
Вообще же нередко классово чуждые элементы — нэпманы, чиновники — довольно неплохо устраивались в тюрьмах. В 1923 году комиссия во главе с членом Президиума ЦКК (Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП/б/) Сольцем проверила дела на лиц, находящихся в московских тюрьмах. Комиссия сделала такой вывод: «Карательная политика народных судов не имеет классового направления… Даже в тюрьмах взяточники, нэпманы имеют все привилегии (преимущества): они отпускаются на работы в учреждения, заходят к себе на квартиру повидать семью, хорошо питаются».
Из книг Бройде мы узнаем о том, что в Лефортовской тюрьме автора использовали в качестве агента по снабжению стройматериалами. Днем он ходил по делам, а ночевать возвращался в тюрьму. В книге описывается случай, когда он, придя вечером в тюрьму, долго не мог попасть в нее, так как дверь была закрыта и никто не открывал. Конечно, не всем так везло. Может быть, сказалось особое обаяние мемуариста, а может быть, тому были иные причины? Не знаю.
Вспоминаются в связи с этим слова А. И. Герцена о тех, кто не пользуется в России привилегиями: «Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином… с такими полиция не церемонится: к кому мужик или мастеровой пойдет жаловаться, где найдет СУД?»
Пройдут десятилетия, и та же невеселая мысль придет к поэту Иосифу Бродскому, отбывавшему ссылку в наших северных краях.
У населения тюрьмы были свои, тюремные интересы. Прежде всего тюрьма жила слухами об амнистиях, о «разгрузках» — такие проводились в двадцатые годы.
Амнистию ждали в январе по случаю Кровавого воскресенья, в феврале — в связи с годовщиной Февральской революции, в марте — в честь Международного дня работницы или, как его еще называли, Международного коммунистического женского дня, а также в честь Дня Парижской коммуны, ожидали ее в августе, потому что в прошлом году она была в августе, ждали и к 1 Мая, и к 7 Ноября, ждали в декабре по случаю очередной годовщины образования СССР.
Если амнистию ожидали в основном к праздникам, то «разгрузку» ждали постоянно. Тогда в тюрьмах количество арестантов не было секретом. Число их официально вывешивалось на специальных досках, да и те заключенные, что работали в канцелярии тюрьмы, знали о количестве в ней зэков. С увеличением их числа надежда на «разгрузку» возрастала. Тюрьма радовалась каждому новому заключенному. Чем больше — тем лучше: росли шансы выйти на свободу по «разгрузке».
В ожидании амнистии или «разгрузки» надо было как-то коротать время. Читать любили немногие. Большинство интересовалось разве что судебной хроникой в газетах. При этом жалели и воров, и бандитов. Когда же узнавали о том, что легко отделался какой-нибудь заворовавшийся чиновник, — возмущались: «Расстрелять надо было гада!»