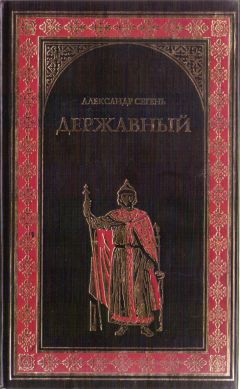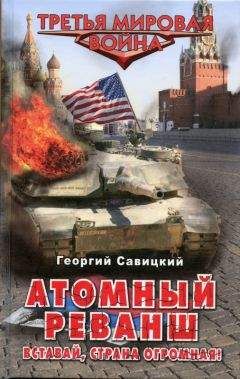— А, так перед нами один из живых источников распространения небылиц о Московии, — хмуря брови, произнёс Аристотель. — То-то, когда я через два с половиной года после вас ехал по тому же пути, мне в Нюрнберге рассказывали о московитах, что они живут в подземных пещерах, не имеющих дна, имеют по три руки и три ноги и питаются человечиной.
— Всему виной наш дорогой друг делла Вольпе, — сказала Софья. — А зато какие в Нурбехе наездники! Они затеяли ради меня целое конное представление, и мне пришлось подарить им семь своих колец с драгоценными камнями.
— Гораздо больше, — вставил Вольпа.
— Опять врёте! — воскликнула Софья Фоминична. — Ну какой же врун! А как он врал папе, что на Москве полностью признали Флорентийскую унию и целиком признают папскую власть.
— Иначе бы папа не отпустил вас к вашему нынешнему супругу, — обиженно отозвался Вольпа.
— А про кольца? Якобы московиты не носят обручальных колец!
— Это недочёт. Я и впрямь забыл привезти кольца. И опять же — не соври я тогда, всё могло сорваться.
— А зачем врали Ивану, что Тревизан ваш племянник? — спросила княгиня. — За это и поплатились опалой. Вот погодите, приедет Иван Васильевич, увидит, что вы не сидите в Коломне, задаст вам трёпку!
— Сколько ж можно сидеть в Коломне? Скучно! Замолвите за меня словечко великому князю! — взмолился Вольпа.
— Ладно уж, замолвлю, — пообещала Софья.
Пройдя между зданием казны и Благовещенским собором, который давно уж подошла очередь следом за Успенским возводить заново, государыня Софья Фоминична со своими собеседниками приблизилась к боковому крыльцу великокняжеского дворца и с благосклонной улыбкой пригласила всех сопровождающих её отобедать вместе с нею после того, как она покормит младшенького княжича Георгия. Юрия, как произносили это имя русичи.
Отправившись в детскую повалушу, она осенила крестным знамением и расцеловала старшенького своего сыночка, Васеньку, которому четыре дня назад исполнилось полтора годика, и взяла у нянюшки шестимесячного Юру. Этому малышу повезло больше, нежели его старшему братцу. Когда Васе исполнилось два месяца, у Софьи кончилось молоко, и его докармливали кормилицы. Теперь же княгиня не могла нарадоваться на саму себя — груди её ежедневно наливались молоком точно так же, как в первые месяцы кормления. И то ли ей казалось, то ли и впрямь было так, но Юра вроде бы развивался быстрее Васи. Он уже вовсю вставал на ножки в своей кроватке и лопотал какие-то словечки — «апап», «ака», «туты-ты». И такой улыбчивый! Такой шалун! В последнее время придумал игру — не сразу брать грудь, а подолгу уворачиваться от неё и при этом задорно хохотать. Вот и теперь, лишь наигравшись так, вдруг цепко ухватил губами сосок и стал с наслаждением пить, утонув всем личиком в большой и мягкой груди Софьи. Государыня вновь ощутила прилив счастья, и в ушах её прозвучал милый голос Ивана: «Хорошая».
И вновь воспоминания о том, как она впервые приехала на Москву, потекли в её голове. Ей вспомнилась ганзейская столица Любек, плаванье по морю, затем Ревель, строгий и чинный приём у рыцарей Тевтонского ордена, переезд в Юрьев[113], здесь — приём у рыцарей Ливонского ордена, на который прибыли и послы от великого князя Ивана Васильевича, они привезли для неё русские платья, дабы, въезжая на русскую землю, она не выглядела иностранкой. Кстати, они даже и для папского легата привезли русское облачение, но Бонумбре предпочёл остаться в своём пурпурном платье, митре и фиолетовых перчатках. Мало того, он был крайне раздражён тем, что Софья переоделась в русское. Ему почему-то казалось, что она обязана своим примером внушать московитам, как надобно одеваться. И потом, когда приехали в Псков, Бонумбре наотрез отказался кланяться русским иконам.
А Софья, наоборот, увидев храмы и иконы, напоминающие собой греческие, вдруг растаяла, вдруг разлюбила всё итальянское, латинское, западное. Она почувствовала себя так, будто после долгого скитания по чужим странам возвратилась к себе домой, на родину. В дороге от Пскова до Москвы она с удвоенной силой старалась овладеть русским языком, с небывалым любопытством расспрашивала всех, кого только можно, о русских обычаях, нравах, обрядах.
И когда они приехали в Снетогорский монастырь Рождества Богородицы, расположенный на живописном берегу реки Великой, она устроила ссору с легатом Бонумбре, сбила с него спесь, объявив, что если он и тут не станет поклоняться русским иконам, то может возвращаться назад в Рим. И легат, скрипя зубами, смирился, поклонился иконам, с таким видом, будто на них не христианские святые изображены были, а сатаны какие-нибудь.
Купцы и бояре псковские как щедро принимали Софью! Мало того, что всюду небывалые пиры устраивали с вкуснейшими яствами, так ещё и пятьдесят рублей золотом подарили. Даже Вольпе обломилось от них — аж целых десять рублей!
И в Новгороде пышно принимали, хотя и чувствовалось, что новгородцы всё ещё не смирились с властью Московского государя. А как выехали из Новгорода — пошёл снег. И все в один голос уверяли, мол, сё — добрая примета. Покуда ехали до Твери, он сыпался и таял, но тут ударил морозец, и снег хорошо улёгся. В Твери пересели в сани, в которых так уютно было ехать, кутаясь в соболя. Тихо, спокойно, мягко. И всё думалось Софье о сыновьях. Будут ли они у неё?
Она посмотрела, как сосёт Юренька, и от счастья прослезилась. Счастье… А сколько горя-то было! Ведь две первые девочки, родившиеся у Софьи от Ивана, померли, не дожив до недельного возраста. Первая три дня прожила, вторая — пять. Деспина уж совсем руки опустила, решив, что нежилое у неё потомство. Вот она, расплата за грехи итальянской юности! За Караччиоло, за Бенедетто, за многих других!..
А Иван добрый. Всё терпел. Успокаивал, приводил примеры своих родственников, у коих также не сразу живой приплод появлялся.
Иван…
Когда к Москве подъехали, в пятнадцати вёрстах от города их встречал посланный Иваном боярин Фёдор Давыдович с требованием, чтобы папский легат ехал скромно и своего латинского креста особливо не высовывал, ибо никакого такого признания унии на Москве нет и вовек не бывало. И пришлось Бонумбре вновь скрипеть зубами и смиряться с проклятыми схизматиками. Он бы и вовсе повернул в обратный путь, да всё надеялся на своё спорщицкое дарование, мечтал устроить прение с московскими священниками и в этом прении посрамить их. Потому до поры до времени смирялся.
И вот она добралась до конечной цели своего путешествия. К великому разочарованию, Москва оказалась не таким могучим и красивым городом, как Псков или Новгород. Даже Тверь была красивее. Только башня, через которую въезжали Софьины сани, отличалась крепостью и внушительной высотой. Но шёл снег, украшая своей девственной белизной крыши московских строений, и холодным чистым воздухом так приятно дышалось. Сани остановились подле недостроенного здания нового Успенского собора, которое с одной стороны даже подпирали тяжёлые брёвна, дабы оно не завалилось набор. Внутри храма всё было в лесах, а посредине стояла временная маленькая деревянная церковь, в которой Софью встречал митрополит Филипп в полном своём блистательном облачении. Софья исповедалась ему и во время исповеди, как никогда, почувствовала общение с Богом, коего посредником был митрополит. И она уже не видела всей неуютности недостроенного храма, не помнила своих разочарований, вызванных первыми видами Москвы, а лишь чувствовала в душе неизъяснимый божественный трепет, свет, изливающийся на неё с небес через руки, глаза и голос русского первосвященника.
Помолившись затем вместе с Филиппом, она в полуобмороке пошла туда, куда её вели, по заснеженной площади, которая называлась Красной, хотя была белой, и казалось, что в каждой снежинке прилетает на Москву маленький ангел. Софья отчётливо, чистым сердцем и открытой душой, видела, что сей град, убогий внешне, осенён такой благодатью, коей нет в величественных городах Италии. И она безумно волновалась, как примет её Иван, увидит ли он то, что она чувствует теперь, поймёт ли её искренний и подлинный восторг.
Наконец её ввели в великокняжеский дворец, который тоже никак нельзя было бы сравнить ни с палаццо Пиколомини, ни с дворцом Леонардо Ногаролы, но который был теперь для Софьи драгоценнее всех хором Италии. Её провели в покои матери Иоанна, вдовствующей княгини Марьи Ярославны. Тучная, натужно дышащая женщина сидела посреди комнаты в кресле, а рядом с ней стоял высокий и красивый мужчина лет тридцати с небольшим, в нарядных одеждах, отороченных мехом и усыпанных драгоценными каменьями. На голове его была шапка с собольей опушкой и златым крестом на вершине. Это был он — дуче Джованни, великий князь Иоанн Васильевич, государь Московский. Лицо и глаза его выражали твёрдое спокойствие, к которому примешивалось лишь лёгкое любопытство. Он сам приблизился к Софье, приподнял прозрачную накидку, несколько прикрывающую её лицо, внимательно рассмотрел Софью и произнёс ровным красивым голосом: