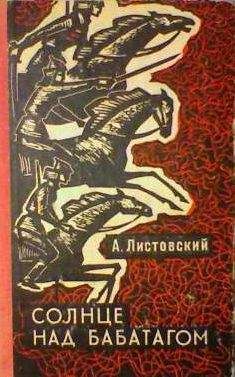— Кто эта девушка? — спросил он.
— Лола.
— Лола? Какая Лола?
— Дочь Абду-Фатто. А что, правда, хорошая девушка, товарищ комбриг?
На похудевшем лице Лихарева появилось выражение крайнего удивления. Он поднял руку к забинтованной голове, видимо обдумывая вопрос, поразивший его.
— Но как же она попала сюда?
— Мы с ней познакомились.
— Хорошо. Но как отец мог отпустить ее к нам?.. Ничего не понимаю. И без чадры. И в русском платье.
— Это я ей подарила.
— Странно все-таки… А как поживает Фатто?
— Он болен, товарищ комбриг, — ответила Маринка, вся вспыхнув.
— Болен? Чем?
— Папатач…
— Так ее зовут Лолой? — спросил Лихарев.
— Да.
«Лола — горный тюльпан, — мысленно перевел он. — Да, действительно эта девушка нежна, как цветок».
В комнату вошел доктор Косой.
— Ну вот! Ну вот мы и поправляемся! — заговорил он с улыбкой. Он подошел к Лихареву, измерил пульс, — Очень хорошо, — продолжал Косой, опустив руку. — Ну, товарищ комбриг, от души поздравляю, У вас великолепное сердце. Откровенно говорю, вряд ли кто другой выжил бы на вашем месте.
— Сердечно благодарю вас доктор.
— Меня не за что, товарищ комбриг, Вот кого благодарите, — указал Косой на Маринку. — Целый месяц около вас просидела почти без сна. Молодец девушка!
— Теперь все обстоит благополучно, — подтвердил Косой. — На днях снимем повязку с головы. А с ногой придется подождать… Вы меня извините, товарищ комбриг. У меня сейчас операция.
— Пожалуйста, доктор, я вас не держу, — сказал Лихарев.
Косой поспешно вышел из комнаты.
Взяв руку Маринки, Лихарев крепко пожал ее.
— Благодарю вас, сестричка, — ласково сказал он, привлекая ее к себе и целуя.
Они не слышали, как в дверях кто-то ахнул.
Лола стояла у порога, опустив руки, с побледневшим лицом. У ног ее лежали, рассыпавшись, чайные розы…
Лола постояла, тихо прикрыла дверь и пошла вдоль дувала. «Ну да, конечно, он любит ее, — с горечью думала девушка. — Она русская и такая красивая, а что я для него?!»
Лола почувствовала, как спазм сжал ей горло; к ее глазам прихлынули слезы, но она из гордости сдерживала их, и они камнем ложились на сердце.
Она вошла в свою комнату, где жила вместе с Маринкой, бросилась на кровать и зарыдала…
Теперь, когда Лихарев пришел в полное сознание, он хотел поскорее узнать обо всем случившемся за это время в бригаде. Маринка рассказывала, ловя на себе ревнивые взгляды Мухтара и Алеши, которые пришли навестить комбрига, узнав, что ему лучше.
Лихарев спросил, как обстоит дело с постройкой театра, и очень обрадовался, узнав, что театр уже строится, а руководит работой трубач Климов, оказавшийся прекрасным плотником.
Увлекшись разговором, Маринка, не замечала, что Климов, стоявший в дверях, делает ей какие-то знаки. Лихарев первый увидел это.
— Сестра, вас зовут, — сказал он.
Маринка поднялась и подошла к двери.
— Слышь, дочка, — зашептал Климов, — верно, нашему комбригу лучше?
— Да. А что вы хотели, Василий. Прокопыч?
— А вот, — трубач подал ей костыли, которые до этого держал за спиной, — для товарища комбрига. Сам делал.
— Хорошо, спасибо… А кто это здесь цветы набросал?
— Не знаю, не видел. Дочка, там ребята интересуются, скоро ли наш комбриг встанет?
— Теперь скоро. Недели через две.
— Вот хорошо. Так ты это передай и скажи: Климов, мол, делал.
— Обязательно. Можете быть спокойны, Василий Прокопыч.
— Ну, то-то же.
Трубач кивнул Маринке и пошел по улице. Ему хотелось поделиться с товарищами радостной вестью. Он решил первым долгом зайти к Кузьмичу и, кстати, попросить у него мази.
Но лекпома в кибитке не оказалось. На дверях висел замок. Зная, где находится ключ, Климов открыл дверь и вошел в комнату. Посредине стоял сколоченный из жердей стол с двумя табуретками. Койка, застланная ватным одеялом, и небольшой шкафчик завершали убранство комнаты. На стене висело схотничье ружье. «А на что ему ружье? — подумал трубач. — Может, на охоту собрался?..»
Не зная, чем заняться до прихода приятеля, Климов стал искать в шкафчике мазь. Тут были всевозможные склянки, бутылки и баночки с такими затейливыми названиями на сигнатурках, что трубач только сердито сопел и отмахивался. Он уже хотел было закрыть дверцу, как вдруг его внимание привлекла стоявшая в глубине большая бутылка.
Он взял бутылку, повертел ее в руках и уставился на этикетку.
— «Туркспирт», — прочел Климов, не веря глазам. — Ух ты, пес! — воскликнул трубач. — Ай да Федор Кузьмич! Ну погоди, пусть только придет! Заставлю его угостить. Выпьем за здоровье нашего комбрига.
Он осторожно поставил бутылку на место.
За стеной послышался тихий жалобный визг.
Климов сразу же сообразил, что скулят запертые в соседней кибитке собаки. Он вышел из комнаты, раздумывая, постоял на пороге и решил посмотреть на собак.
Сквозь щелку были видны в темноте только три пары мерцающих глаз.
Сняв деревянный засов, трубач распахнул двери.
— А ну, братцы, выходи на прогулку! — крикнул он весело.
Собаки выскочили из кибитки, набросились на трубача и, облизав ему руки, губы и усы, принялись носиться по кругу. Здесь были серый, с могучей грудью, лобастый Мишка, рыжий Бек и белый Снежок.
— Ну ладно! Хватит! Довольно! — покрикивал Климов. — Слышите? Кому говорю? Залезай обратно! А то хозяин вернется, попадет мне за вас.
Но собаки не проявляли ни малейшего желания возвращаться в заточение. В приливе восторга они с громким лаем носились как угорелые.
— Ну и пес с вами, — решил трубач. — Гуляйте на здоровье. «Но что же это Федор Кузьмич не идет?» — подумал он с досадой. Он вошел в комнату и, покашливая, остановился у шкафчика. Искушение было так велико, что трубач уже протянул руку к дверце, но тут же отдернул ее.
Известно, что человек, когда захочет, всегда найдет себе оправдание. Так и Климов, немного подумав, он решительно достал бутылку, налил мензурку и коротким движением смахнул содержимое в рот.
— О-о! Вот это да! — с довольным видом воскликнул он, шумно выпуская воздух через усы. — А ведь верно говорится: рюмочку выпьешь — другим человеком станешь. А другой человек тоже не без греха — сам выпить хочет, — сказал он, повторяя прием.
Он сел за стол, поставив бутылку перед собой.
— А, Михаил! Почет и уважение, — сказал трубач, посмотрев на пса, который вошел в комнату и присел у койки напротив него. — Ты что же один? А твои товарищи где?
Мишка улыбнулся и, как показалось трубачу, с осуждающим видом вильнул хвостом.
— Что, осуждаешь? — заговорил Климов, хмелея. — Напрасно, песик, старика грех осуждать. Это которого молодого — пожалуйста. А мне скоро и тово — помирать… И, между прочим, она, водочка, вошла мне в потребность души, — сказал он, подливая в мензурку.
Подходя к своей кибитке, Кузьмич услышал, как чей-то хриплый голос пел разудалую песню:
…Справа повзводно сидеть молодцами, Не горячить понапрасну коней…
«Кто это?»— с тревогой подумал лекпом, теперь уже ясно слыша, что поют в его кибитке. Он открыл дверь и вошел в комнату.
Климов сидел за столом, расположившись как дома. Перед ним стояла наполовину пустая бутылка.
Кузьмич глянул на этикетку и ахнул.
— Василий Прокопыч! Что же это такое? А? Я вас спрашиваю? — крикнул он трагическим голосом.
Климов отмахнулся, стукнул по столу кулаком и грянул в ответ Преображенский марш:
— Василий Прокопыч, я вам говорю! — весь побагровев, крикнул лекпом, ударяя кулаком по столу. — Что это вы безобразничаете? Совести у вас нет! Почти весь запас выпили! А я к Новому году берег! — Он взял бутылку, убрал ее в шкафик, и тут на голову Климова посыпался целый град нравоучений. Кузьмич пообещал ему белую горячку, разрыв сердца и паралич.
Высказав все это, лекпом несколько успокоился, но Климов сам подлил масла в огонь. Он расправил усы и сказал, что такой замечательной штуки в жизни не пил.
— Анахорет! — выругался Кузьмич, использовав подслушанное где-то слово и не понимая смысла его.
При этом слове весь хмель вылетел из головы трубача.
— Как?! Чего?! Как вы сказали?! — зловещим шепотом спросил старик, поднимаясь из-за стола.
— Анахорет вы… собачий! Вот вы кто! — крикнул лекпом, быстро оглянувшись на дверь.
— Анахорет? Собачий? Да я вас за такие ваши слова в лепешку расшибу!
В просвете дверей появился Ладыгин.
— Что тут за шум? — опросил он, оглядывая обоих приятелей.
— Да как же, товарищ командир! — сказал Климов с обидой. Он показал на лекпома. — Такие слова выражает. Анахорет, говорит, извиняюсь, собачий!
— Вы что, пьяны?
— Никак нет. Ни в одном глазе.