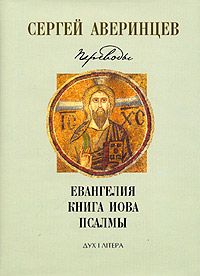– Сподобился пан Сымон, – сказал Вежа.
– Сподобился, да не очень, – сказал Кастусь. – Потому что как раз в это время умерла мать.
– Ты ее помнишь? – спросил Алесь.
– Плохо, – ответил Калиновский. – Почти не помню. Знаю только – красивая была. Иногда встретишь женщину с добрым, красивым лицом и ищешь в ее чертах черты матери. Может, такая была. А может, и не такая. Не помню.
– Какого рода? – спросил Вежа.
– Вероника из Рыбинских.
– Н-не знаю, – на этот раз уже всерьез сказал старик.
– Я плохо ее помню. Только руки. И еще глаза. Да песню, которую она пела. Заболела задолго до смерти. Рассказывали, как раз когда крестили меня. Привезли в Яновский костел. Был поздний вечер. Пока готовили купель, ставили, пока то да се, матуля с кумой и мной пошли по погосту пройтись. Погост там большой. Подошли к могиле Леокадии Купчевской, свояченицы Яновского пана, – она умерла молодой, и все говорили, что матуля чем-то на нее была похожа, только красивее, и потому мать всегда там останавливалась. Стоят. А из-за памятника, из-за барельефа пани Лиошки, – вдруг морда. Да страхолюдная, заросшая. Пока поняли, что это местный юродивый Якубка Кот, ноги у обеих подкосились. А тот идет за ними к костелу, вытанцовывает да говорит что-то наподобие: "Кумы дитя крестили, горло кропили, в рукав кожуха положили, по дороге потеряли… Лежит дитя на морозе, свечечки вокруг. Пальчиком шевельнет – перуны смалят, кулачок сожмет – громницы бьют. В "черного"! В "черного"! Мать шаг ускоряет, а он плачет: "Подберите дитя, добрые люди. Долго ли ему, холодному, пальчиком шевелить? А людцы мимо идут, а молнии слабеют. Вох-вох!!" Юродивого, конечно, прогнали. Только начали крестить – гром за погостом. А это сосед, Ципрук Лазаревич, собрал хлопцев и говорит: "Погремим на счастье кугакале". [91]Ну, и стреляли в небо. А всем вначале показалось – гром. После слов юродивого женщины обомлели: гроза – зимой… Крестная говорила, с этого дня у матери и началось. Начала худеть, чахнуть. Работы много. Детей одних двенадцать человек. А еще молодая. Меня почему-то очень жалела, говорят.
"Чем же вы богаты, панове? – вспомнил старый Вежа. – Детьми, да смехом, да днепровской водой".
А Кастусь рассказывал дальше:
– Умерла. Отцу надо было думать, как быть с детьми. Без матери не оставишь. А у того Ципрука Лазаревича, что на моих крестинах в небо стрелял, свояченица. Немного из тех лет вышла, когда сваты у ворот околачиваются, и красоты не первой, но добрая женщина. Так и появилась у меня мачеха Изабелла да еще семь братьев и сестер. Девятнадцать было б всех, но двое умерло.
Кастусь помолчал.
– У мачехи нашлись кое-какие деньги, отец наскреб, и купили мы фольварк, а при нем две сотни да тридцать десятин земли. По тринадцать десятин на человека. Фабрику перевезли, жить стало, если все вместе, так и неплохо. Ну и что? Поделишь – снова ерунда. Хуже иных крестьян. Отец старших сыновей – учиться, на свой хлеб. И, пользуясь тем, что земля есть, начал пороги обивать, "куку в руку" давать. И вот в этом году наконец оказали честь, издали постановление сената: "Считать владельца фольварка Якушевка, Сымона Стафанова Калиновскго, лет шестидесяти одного, вероисповедания римско-католического, как и наследников его, дворянином". Двадцать четыре года понадобилось на приговор. Начал добиваться молодым, в тридцать пять лет, мать была молодая, здоровая, а добился развалиной. Ненавижу я все это.
На челюстях у Кастуся ходили упрямые желваки, горели на щеках красные пятна.
– Ничего, брат, – сказал Вежа, – выучишься вот, голова у тебя хорошая, дойдешь до больших начальников – только перышки с "меньших" да "младших" братьев полетят.
– А что? – улыбнулся Кастусь. – И тариф над головой повешу, как зельвенский писарь: за подпись – три рубля да пирог с вязигой, за подтверждение дворянской годности – тысячу рублей да жене семь аршин бархата. А я сам в сенате шишка дюже важная. Заходит случайно государь император: "Гнать, говорит, его за такую таксу".
– Правильно, – буркнул Вежа. – "Потому как он нам всем цену сбивает, – скажет император. – Мне вон за концессию на строительство железной дороги сколько платят, и то мало. А тут… пи-рог с вязигой. У дурака и песня глупая". [92]
Лился в окна свет луны, смешивался с розовым светом свечей.
– Так что, Кастусь, – спросил Вежа, – ты, значит, поляк?
– Нет, я здешний, – осторожно сказал Калиновский.
– Он белорус, дедуня, – сказал Алесь.
– А это что такое? – недоуменно спросил дед.
И только теперь заметил, как молодой человек напрягся, словно его ударили, взглянул на Вежу потемневшими глазами.
– Он ведь вам говорил, пан Вежа, – бросил Калиновский.
– Я говорил тебе, дедусь, – сказал и Алесь.
– А, – словно вспомнил Вежа, – припоминаю. И вы верите в эти шутки?
Тут вспыхнул и Алесь. И Вежа понял, что зашел слишком далеко. Однако бес все еще сидел в нем.
– Как же не поляк? – сказал он. – Крестили тебя в костеле. Вероисповедания ты римского.
– Ну и что? – тяжело двигая челюстями, сказал Калиновский. – Прошу извинить, завтра я окрещу вас в костеле, но вы не станете из-за этого поляком. А я перейду в магометанство и не стану турком. Будет белорус магометанского вероисповедания и белорус вероисповедания католического.
– Неплохо для начала, – сказал дед.
– И для конца неплохо. Тем более что ваш младший внук – католик. По вашему приказу.
Вежа даже охнул. Чертенок бил прямо под дых.
– Однако же местность, откуда ты родом, – это Польша?
– Возможно, – сказал Кастусь. – Но теперь это Гродненская губерния.
– А завтра наш… гм… Август… присоединит к Гродненской губернии Варшаву.
– А жители, которые называют себя литвинами, а свой край Литвой?
Разговор и нравился, и не нравился Веже. Нравился потому, что чертенок знал, чего хочет. Не нравился потому, что эти знания угрожали и внуку, и самому чертенку опасностью.
– А ты умеешь говорить по-литовски? – с улыбкой спросил он. – Это же, кажется, не славянский язык.
– Я имею в виду не Литву-Жмудь, – упрямо кусая губы, сказал юноша. – Я имею ввиду Литву-Беларусь… И потом – вы же хорошо знаете, откуда выросла та ошибка.
– Я-то знаю, а вот откуда знаешь ты?
– У меня брат историк. И потом я не глухой. Семнадцать лет я слышу слово "Литва". А до меня его употребляли еще триста лет.
И тут Вежа сделал последнюю попытку повернуть вал кросен, на котором ткачиха-судьба ткала будущее этих юношей. Нанес последний и по-настоящему страшный удар.
Внешне это выглядело как милая шутка. Дед налил себе еще чашечку кофе.
– И все же никакой ты, хлопче, не белорус. Ты поляк. Точнее говоря, мазур.
Калиновский встревожился.
– Потому что твой Амброзий Самойлов сын Калиновский был с Визской земли… "Мечник Визской земли. Сын мечника Визской земли. Внук мечника Визской земли…" А Визская земля – это Мазовия.
– Так вы все знали сами, – растерянно сказал Кастусь. – Зачем же тогда?…
– Ты поляк, хлопче, – сказал Вежа. – Я знаю, тебе трудно расстаться с решением, которое вынес ты сам. Но это великий народ, который значительно больше знает о себе, чем мы все. Этим надо гордиться, а прочих "здешних" предоставить их судьбе, если уж они ничего не хотят… Главное – быть человеком, сынок.
И вдруг тишину нарушил странный, приглушенный звук. Кастусь смеялся. Смеялся горько, чуть язвительно и глухо.
– Да, Амброзий был мечник Визской земли. Но там живут и жмудины, и немцы, и поляки, и белорусы. Вы привели ненадежный довод, князь… Однако пусть, пусть даже и так… После него мои предки сто семьдесят лет жили на этой земле, ели ее хлеб, говорили на ее языке, умывались ее водой, пели ее песни… Да разве не все равно, если я сам считаю себя "литвином", белорусом, здешним – назовите это как хотите? Разве не все равно, если дома у меня говорят на мужицком языке, если только один отец – "для детей" – знает то, что у нас называется "польским" и чего не понимают поляки, потому что это исковерканные наши слова…
Глаза Кaстуся блестели.
– И разве не все равно, если покойная мать не знала иного языка, и братья мои, и я сам не знал до прогимназии другого… Вы знаете, какая та единственная песня, которую я помню от матери?
Шчыравала ў бары пчала,
Па верхавінках лятаючы, салодкі мёд збіраючы…
Вежа молчал.
– Белорус, – с глухой иронией произнес он. – Друг бредовых мечтаний моего внука. Что ж… Бог с тобой, сыне. Пусть тебе доля дает счастье.
И добавил:
– Психопаты… Неразумные… Мамкины сынки, пахнущие молоком… Что же это с вами будет, а?
…В тот год Приднепровье опять постигла беда – страшный летний паводок. Словно какое-то наваждение: вода стояла на уровне среднего весеннего половодья. Днепр залил луга, овраги, прибрежные поля. Старые русла превратились в протоки, в длинные озера.