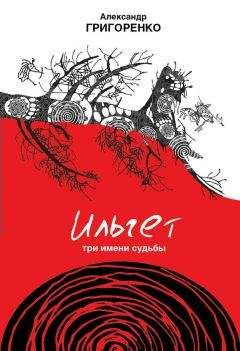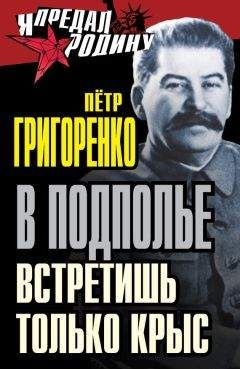Как это делали на охоте многие люди тайги, желая узнать близко ли большая добыча, сохатые, кабаны или стадо диких, я нашел небольшой камень, наполовину погруженный в землю, лег на живот, сжал его зубами и замер. По моим костям пошел звук, напоминающий тихий плеск воды. Полежав так, я встал, нашарил на земле свое истрепанное берестяное ухо и направил его в круг, но оттуда доносился тот же плеск, ничего не говорящий мне.
Потом я почувствовал, как напрягся ремень на поясе — Йеха не спал.
Не меняясь в лице, он тянул ремень на себя.
— Что видишь?
— Звери. Много зверей. Столько, сколько никто из людей не видел. А что ты слышишь, скажи, ну?
Он обхватил трубу и закричал со злостью:
— Не ври! Нет там зверей! Там люди плачут! Еще людей пригнали, безмозглая ты кость! Человека от зверя не отличаешь, росомаха!
Одним движением Йеха разорвал берестяное ухо, швырнул обрывки в темноту и затрясся, сжав губы, чтобы не выпустить плач.
Так я совсем оглох — и не перестаю возносить благодарения тому, кто отнял у меня слух.
* * *
На другой день рабов с повозками и скотом отвели на соседний холм.
Открылась равнина, которую вместо очертаний далеких гор обрамляли ровные поля конных людей. Тумены стояли под разноцветными знаменами и ждали своего повелителя. Я видел: только знамена и переливающийся мех на шапках всадников двигались в этих полях. Так же неподвижны были воины, расставленные на равном расстоянии друг от друга вдоль стены из дерева и кожи.
Внутренность круга исходила паром, под которым, подобно кипящему в котле густому рыбьему клею, переливалось разноцветное месиво существ. Зверье, согнанное в круг без различия рода, жило единым телом, обреченным общей судьбе. Вкладывая всю силу в глаза, я различал копытных, сбившихся плотными толпами, голова к голове, волков, лис, шакалов, опустивших морды и бегавших без остановки между телами, я видел небольшие свободные островки, в которых показывались яркие спины князей этих мест. Мелкое зверье было подобно насекомым и едва различимо.
Йеха тянул за ремень, что-то кричал, показывая пальцем в сторону круга, я не различал слов, которых было много, и кричал ему одно: «Там звери, разные звери, это не обман!» Великан втягивал воздух носом, пытаясь понять запах, но запах был ему незнаком. Он что-то говорил, много и быстро, я не угадывал движения его губ — и отвернулся.
В полдень взоры людей обратились к западу, где возникло свечение. Приближалось что-то, напомнившее мне змея, ползущего по телу Йонесси, только тот змей был цвета темного железа, а этот блистал под солнцем, и у него была голова — белая юрта, подобная снежной вершине. Этот человек ехал в юрте, сопровождаемый своим возлюбленным войском. Он одел это войско в лучшую броню, какая только была на свете, он считал его своим телом и молился ему, как молятся богам, от которых зависит жизнь и смерть.
Змей приблизился к кругу на расстояние полета стрелы и остановился. Тому человеку подвели коня, он покинул белую юрту, и весь строй ринулся вперед. Знамена и облака пара взлетели над туменами.
Блистающие всадники столпились у передней части стены, закрыв спинами того человека. Он показался чуть позже, когда вместе с несколькими людьми въехал в круг и разноцветное пятно попятилось, освобождая перед ним пространство. Я не видел оружия в его руках — он просто стоял и смотрел на зверье, и так продолжалось долго. Потом подъехал всадник в желтом шлеме и передал ему лук.
Он пускал стрелы — одну за другой, без устали, так что стоящие сзади несли ему полные колчаны, как туеса с едой на большом пиру. После первой стрелы живое внутри круга вздрогнуло единым движением. Пар над кругом поднимался клубами из сотен и сотен звериных глоток. А он стрелял, стрелял, стрелял… Сколько времени так продолжалось, я не знаю — помню только, что обернулся и увидел Йеху, увидел других оборванцев на холме, зажимающих уши, спасаясь от чудовищного звука, исходившего из круга.
Когда под его стрелами остановилось движение в третьей части, а может, в половине круга, он опустил лук, повернул коня и тихим шагом двинулся к своей белой юрте. Его место заняли другие люди, всадники в желтых шлемах, потом к ним присоединились люди в броне светлого железа, потом в круг вошли люди в кожаных доспехах и больших меховых шапках — их стало много, они разъезжали по кругу, как по пустому месту, выискивая и добивая остатки…
* * *
К вечеру внутренность круга стала неподвижной.
После всадников туда зашли люди, много людей в серых войлочных одеждах. Одни собирали стрелы, другие искали нужные им туши. Я видел, как за пределы стены выволокли нескольких полосатых князей и одного пятнистого, — тех, кто тащил, встречали, вскидывая руки.
Но взяли из круга совсем немного — диких ослов и оленей. Остальное зверье было не нужно монголам.
Двинулись с места тумены под знаменами. Когда они ушли, подняли нас, рабов, и погнали в круг — убирать то, из чего была сделана стена, и собирать оставшуюся дичь.
Йеха впрягся в повозку. Монгол, бывший старшим в нашем десятке — а всех рабов, так же, как и самих себя, они делили на ровные числа и ставили каждому числу начальника, — показал знаками, что обратно мы повезем не колья, кошмы и молоты, а убитых лис. Одну лису начальник вытащил за хвост прямо из-под своих ног, показал на нее пальцем, что-то прокричал и бросил в повозку. К заходу солнца повозка наполнилась с верхом, хотя мы не обошли и половины круга. Зверья было столько, что мы почти не наступали на землю. Некоторые из рабов прятали за пазухи зайцев и больших сусликов — в тайге такие не встречались…
Такова была охота великого хана и его народа.
Боорчу — единственный монгол, которого в ту пору я знал по имени, — сделал мне подарок.
Ему больше других полюбились пляски обоюдного существа. После великой охоты, ночью, он пришел в загон для рабов и, застав существо спящим, пнул меня в бок. Он что-то кричал, от крика его проснулся Йеха и вскочил на ноги.
Увидев, что нет моего берестяного уха, монгол замолк и ушел.
Через несколько дней, опять ночью, в мое ухо больно ткнулось что-то твердое, и вслед за болью раздался далекий звук:
— Эй, Сэвси-Хаси! Эй!
Боорчу принес полый рог огромного быка — наверное, из тех, которые везут белую юрту, — и этот рог заменил мне берестяную трубу. Кому-то из мастеров монгол велел отпилить острый конец рога и вдобавок привязать к нему тонкий ремень, чтобы я мог носить его повсюду, не теряя.
Тут же он схватил меня за шиворот и повел нас к огням войска. Его десяток, собравшись у огня, ел мясо и пил, наливая из бурдюков в чашки, пахучую дурманящую воду. Когда окончился танец, нам дали того и другого. Впервые мы поели до сытости, но выпитое тут же опорожнило наши утробы. Монголы смялись, а меня душила горечь.
То был последний раз, когда нас притащили на потеху. Скоро монголы сменили веселые лица на суровые.
Пришла весна, великое стойбище снялось с места и двинулось в глубь расцветающей равнины.
Мы шли по травам и камням, через неведомые и непохожие друг на друга реки — каменистые, как моя река, или песчаные, как река Ябто, — мы обходили цепи белых гор, и в этом странствии провели год, из которого в памяти осталось лишь немногое. Но это немногое не оставляет меня и сейчас.
* * *
Из того года самым памятным было удивление — оно возникло, когда я впервые увидел город.
Посреди ровного пространства возникла серая ровная скала без вершины, каких я не встречал никогда. Мы подошли ближе, и я увидел, что верх скалы будто обшит бисером — то были люди. Скоро я узнаю назначение этих скал, но тогда осталось одно лишь удивление — без всякой мысли. В те дни я шел, потому что ведут, жил, потому что не умер, и если бы размышлял над увиденным, то, наверное, подумал бы о том, что стены — единственный способ спрятаться на земле ровной, безвидной, не дающей укрытия никому.
Названия того города я не знаю. Он был намного меньше тех, что я увижу потом. Но ни один из них уже не удивлял меня, хотя другие люди, родившиеся в тех краях, со слезами на глазах, смотрели на стены, становившиеся от города к городу все выше, на скопления странных разноцветных жилищ, и что-то похожее на молитву выговаривали их губы. Для меня же город остается тем, от чего я держусь на расстоянии, как от чего-то чужого, почти ненавистного.
Когда мы останавливались, Йеха кричал в мой рог одни и те же слова: «Что видишь?!» Спросил он и в тот раз. Я ответил ему: «Не знаю». Сын тунгуса прокричал еще раз — он желал, чтобы его глаза, идущие впереди, служили так же верно, как мне служат его уши.
И я сказал ему, что вижу большую муравьиную кучу, но только вместо земли, сухих листьев и хвои — камни, а вместо муравьев — люди.
Йеха замер, будто в моих словах услышал что-то, чего ждал.