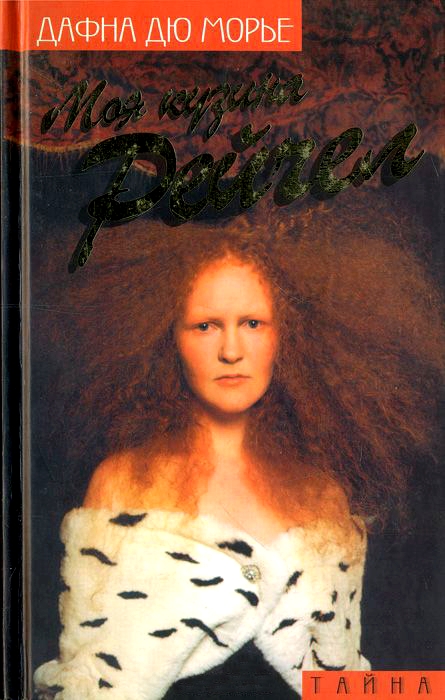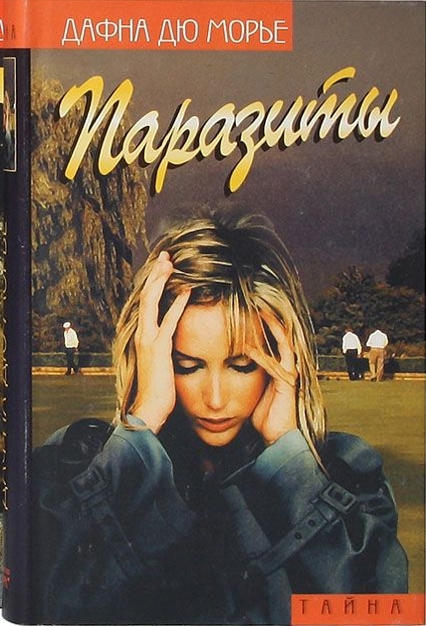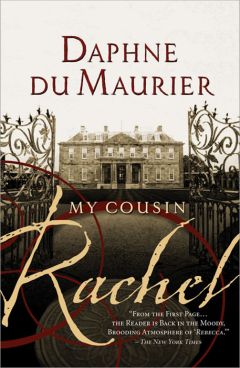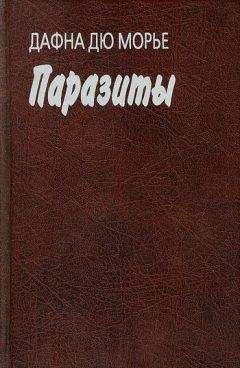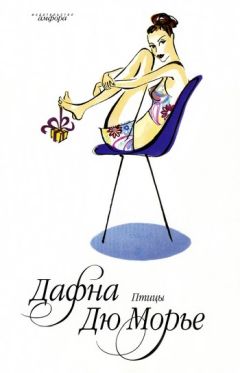знал, что должен иметь подтверждение всему, о чем писал Эмброз, и хотя каждое слово, которое мне пришлось произнести, вызывало у меня отвращение, я все-таки заставил себя обратиться к ней с вопросом. Перо скрипело по бумаге; снятие копии с завещания было не более чем предлог: я мог не смотреть на нее.
— Я вижу, что оно датировано ноябрем, — сказал я. — У вас есть какие-нибудь соображения, почему Эмброз именно в этом месяце составил завещание? Ведь вы обвенчались в апреле.
Она не спешила с ответом, и я вдруг подумал о том, что, должно быть, испытывает хирург, зондируя едва затянувшуюся рану.
— Не знаю, почему он написал его в ноябре, — наконец проговорила Рейчел. — В то время ни он, ни я не думали о смерти. Скорее, наоборот. Это было самое счастливое время из всех полутора лет, что мы провели вместе.
— Да, — сказал я, беря чистый лист бумаги, — он писал мне.
— Эмброз писал вам? Но я просила его не делать этого. Я боялась, что вы не правильно его поймете и почувствуете себя в некотором смысле ущемленным. С вашей стороны это было бы вполне естественно. Он обещал сохранить завещание в тайне. Ну а потом случилось так, что оно утратило всякое значение.
Ее голос звучал глухо, монотонно. В конце концов, когда хирург зондирует рану, то страдалец, возможно, вяло говорит ему, что не чувствует боли. «Но женщина чувствует глубже», — написал Эмброз в письме, которое теперь погребено под гранитной плитой. Царапая пером на бумаге, я увидел, что вывожу слова: «Утратило значение… утратило значение…»
— В результате, — сказал я, — завещание так и не было подписано.
— Да. Эмброз оставил его таким, каким вы его видите.
Я кончил писать. Сложил завещание и снятую с него копию и положил их в нагрудный карман, где днем лежало письмо Эмброза. Затем я подошел к Рейчел и, обняв ее, крепко прижал к себе, не как женщину, а как ребенка.
— Рейчел, почему Эмброз не подписал завещание? — спросил я.
Она не шелохнулась, не попыталась отстраниться. Только рука, лежавшая на моем плече, вдруг напряглась.
— Скажите, скажите мне, Рейчел…
В ответ, словно издалека, прозвучал слабый голос, едва уловимым шепотом коснувшийся моего слуха:
— Не знаю и никогда не знала. Мы больше не говорили о нем. Наверное, поняв, что я не смогу иметь детей, он разуверился во мне. В его душе угасла какая-то вера, хотя сам он и не сознавал этого.
Стоя на коленях перед креслом Рейчел и обнимая ее, я думал о письме в записной книжке под гранитной плитой, письме с теми же обвинениями, хоть и выраженными другими словами, и задавал себе мучительный вопрос: как могли два любящих человека настолько не понимать друг друга, что даже общее горе не помешало их взаимному отчуждению? Видимо, в самой природе любви между мужчиной и женщиной есть нечто такое, что ввергает их в душевные муки и подозрительность.
— Это вас огорчило? — спросил я.
— Огорчило? А как вы думаете? Я просто голову потеряла.
Я представил себе, как они сидят на террасе перед виллой, разделенные странной тенью, сотканной из их собственных сомнений и страхов, и мне казалось, что эта тень вырастает из такого далекого прошлого, которое разглядеть невозможно. Быть может, не сознавая своего недовольства и размышляя о ее жизни с Сангаллетти и еще раньше, Эмброз обвинял ее за то, что все эти годы она провела не с ним; а Рейчел с такой же обидой и негодованием думала, что утрата ребенка неизбежно повлечет за собой утрату любви мужа. Как же плохо понимала она Эмброза! Как мало знал он ее! Я мог рассказать Рейчел о содержании письма, лежащего под плитой, но мой рассказ к добру бы не привел. Отсутствие взаимопонимания между ними коренилось слишком глубоко.
— Так что завещание не было подписано всего лишь по оплошности?
— Если угодно, называйте это оплошностью, — ответила она, — теперь это не имеет значения. Но вскоре его поведение изменилось, и сам он изменился. Начались эти ужасные головные боли, от которых он почти слепнул.
Несколько раз они доводили его до неистовства. Я спрашивала себя, нет ли тут моей вины. Я боялась.
— И у вас совсем не было друзей?
— Только Райнальди. Но он не знал того, о чем я рассказала вам.
Это холодное, строгое лицо, узкие пронизывающие глаза… я не винил Эмброза за недоверие к этому человеку. Но как Эмброз, будучи ее мужем, мог так сомневаться в себе? Конечно же, мужчина знает, когда женщина любит его.
Хотя, возможно, это и не всегда удается определить.
— А когда Эмброз заболел, вы перестали приглашать Райнальди к себе?
— Я не смела, — ответила она. — Вам никогда не понять, каким стал Эмброз, и я не хочу об этом рассказывать. Прошу вас, Филипп, не спрашивайте меня больше ни о чем.
— Эмброз подозревал вас… но в чем?
— Во всем. В неверности и даже в худшем.
— Что может быть хуже неверности?
Она вдруг оттолкнула меня, встала с кресла и, подойдя к двери, распахнула ее.
— Ничего, — сказала Рейчел, — ничего на свете. А теперь уйдите и оставьте меня одну.
Я медленно поднялся и подошел к ней:
— Простите меня. Я вовсе не хотел рассердить вас.
— Я не сержусь, — сказала она.
— Никогда, — сказал я, — никогда больше я не буду задавать вам вопросов. Те, что я задал сегодня, были последними. Даю вам торжественное обещание.
— Благодарю вас, — сказала она.
Лицо ее было утомленным, бледным; голос звучал бесстрастно.
— У меня была причина задать их, — сказал я. — Через три недели вы ее узнаете.
— Я не спрашиваю вас о причине, Филипп. Уйдите. Вот все, о чем я вас прошу.
Она не поцеловала меня, не пожала руки. Я поклонился и вышел. Но миг, когда она позволила мне опуститься перед ней на колени и обнять… Почему она вдруг так переменилась? Если Эмброз мало знал о женщинах, то я и того меньше. Эта неожиданная пылкость, что заставляет мужчину забыть обо всем, застает его врасплох и возносит на вершины блаженства, и тут же — беспричинная смена настроения, возвращающая его с небес на землю, о которой ему на мгновение позволили забыть. Какой запутанный и сбивчивый ход мысли вынуждает их забывать о здравом смысле? Какие порывы пробуждают в них то гнев и отчужденность, то неожиданную щедрость? Да, мы совсем другие, с нашим более неповоротливым мышлением; мы медленно движемся по стрелке компаса, тогда как их, мятущихся и заблуждающихся, несут куда глаза глядят ветры воображения.
Когда на следующее