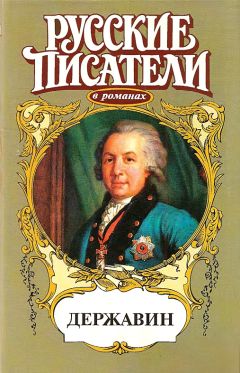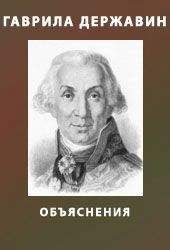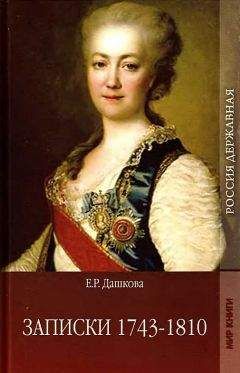Державин прикрыл глаза, как бы уйдя в себя, в свои воспоминания, затем встрепенулся и с некоторым вызовом, словно приглашая на спор, сказал:
— А вот высокому, трагическому жанру не повезло...
— Но как же «Эдип в Афинах»? — осмелел юноша. — Такой трагедии, какую создал Озеров, у нас никогда не бывало! Стихи бесподобные, мысли прекрасные, чувства бездна... — он умолк, испугавшись хвалить кого-то при Державине.
— Всё это так, но при несравненных красотах у Озерова есть и немалые погрешности...
В сих словах Жихареву послышалось неодобрение, вызванное чувством соперничества. Ходили слухи, будто сам Державин занялся сочинительством трагедий и даже либретто целых опер. В Москве это известие принято было с огорчением. В ответ на то, что Державин пишет нечто в духе итальянского композитора Метастазио, Дмитриев горько пошутил: «Разве вроде безобразия» и затем долго сетовал на то, что величайший лирический поэт на старости занимается сочинениями, совершенно не свойственными его гению.
Да, Державин уже закончил два больших драматических произведения с хорами и речитативами: «Добрыня» и «Пожарский». А затем в течение нескольких лет, удивляя всех плодовитостию, написал ещё трагедии «Ирод и Мириамна», «Евпраксия», «Тёмный», «Атабаллбо, или Разрушение Перуанской империи» и три оперы — «Грозный, или Покорение Казани», «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы». Всем им была уготована судьба, предсказанная И. И. Дмитриевым: они были скоро забыты.
Сам Державин, однако, очень гордился своими драматическими сочинениями и теперь пожелал мысленно сравнить их с тем, что пишет нынешняя молодёжь.
— Прочитайте-ка что-нибудь, — попросил он Жихарева.
Молодой человек развернул своего «Артабана» и с чувством продекламировал сцену из 3-го действия, где опальный царедворец Артабан, скитаясь по пустыне, поверяет стихиям свою скорбь и негодование.
— Прекрасно! Ну право, прекрасно! — сказал Державин, едва Жихарев кончил чтение. — Да откуда у тебя талант такой? Всё так громко, высоко! Стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова[63]!
Жихарев остолбенел и даже подумал, не надсмехаются ли над ним. Но нет, поэт был серьёзен.
— Я с малолетства напитан был чтением Священного писания, книг пророческих и ваших сочинений, — наконец ответил он. — Едва только выучился лепетать, как знал наизусть «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещёрского», «Фелицу»....
— Оставь, пожалуйста, твою трагедию у меня, — с ласковой улыбкой сказал Державин. — Я с удовольствием её прочитаю и скажу своё окончательное мнение...
От этих ободрительных слов юноша почувствовал себя на седьмом небе; у него развязался язык, и он стал говорить о державинских стихах, цитируя многие на память, рассказал о знакомстве с Дмитриевым, распространился и о других московских литераторах, Мерзлякове и Жуковском, которые были Державину почти неизвестны.
Тот слушал Жихарева с видимым удовольствием, а затем пригласил на обед. Домашние его находились уже в большой гостиной, на нижнем этаже. Он представил тотчас же молодого человека своей супруге Дарье Алексеевне:
— Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля... — потом, оборотившись к племянницам, продолжал: — Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь.
После обеда Державин сел в кресло за дверью гостиной и сразу же задремал. Одна из племянниц, Вера, сказала, что это всегдашняя его привычка.
— А что это за собачка, — спросил Жихарев, — которая торчит у вашего дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из его рук?
— Подарок за доброе дело. К дядюшке ходила за пособием одна бедная старушка. Однажды зимою бедняжка притащилась окоченевшая от холода, получила деньги и ушла. Но потом воротилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе её собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерть свою пансион. Только она по дряхлости своей теперь не ходит за ним, а дядюшка заносит к ней пособие сам, во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой, или не рядом с ним на диване, то лает, визжит, мечется по всему дому...
Меж тем Державин проснулся и, погладив Бибишку, начал ходить по комнатам, насупившись и отвесив губы. По-видимому, его совершенно не занимало то, что происходило вокруг. Но, как подметил впоследствии Жихарев, чуть поэт узнавал о какой-либо несправедливости и оказанном кому-либо притеснении или, напротив, о подвиге человеколюбия и добром деле, — тотчас колпак набекрень, глаза начинали сверкать, и Державин превращался в оратора, поборника правды. «Хотя надо сказать, — размышлял молодой человек, — ораторство его не очень красноречиво. Он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый...»
На прощание Державин сказал:
— Милости просим на обед послезавтра. Завтра хотя и праздник, но у нас невесёлый: память по Николаю Александровиче Львове.
Увы, Львов скончался 21 декабря 1803 года, не дожив и до пятидесяти двух лет. «Вот, братец, — горестно писал Державин Капнисту, — уже двое из стихотворческого круга нашего на том свете. Я говорю о Хемницере и Николае Александровиче». Смерть Львова Державин оплакал в стихах «Память другу».
Взамен рассыпавшегося скромного содружества складывалось иное, объединившее питерских староверов в противовес московскому кружку Карамзина. Их возглавил автор «Рассуждения о старом и новом слоге», непримиримый противник нового — в государственной политике, обычаях, языке, литературе адмирал А. С. Шишков. Среди молодых писателей, стремившихся подражать чувствительной и лёгкой речи Карамзина, нашлось несколько таких, которые уродовали литературную речь нелепыми галлицизмами. Свой главный удар Шишков нанёс низкопоклонству перед иноземной, французской модой.
«Какое знание можем мы иметь в природном языке своём, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо не стыдятся не знать оного, но ещё многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающих их достоинством, хвастают и величаются».
«Всё то, что собственно наше, стало становиться в глазах наших худо и презренно. Французы учат нас всему: как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и давке как сморкаться и кашлять. Мы без знания языка их почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу по-французски. Благородные девицы стыдятся спеть русскую песню. Мы кликнули клич, кто из французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряжённую с великим уважением и доверенностию, принять на себя попечение о воспитании наших детей. Явились их престрашные толпы; стали нас брить, стричь, чесать. Научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами. Одним словом, они запрягли нас в колесницу, сели в оную и торжественно управляют нами, а мы их возим с гордостью, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честию возить их. Не могли они истребить в нас свойственного нам духа храбрости; но и тот не защищает нас от них: мы учителей своих побеждаем оружием; а они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребёнками. От сего-то между прочими вещами родилось в нас и презрение к славянскому языку».
Нетрудно увидеть, сколь истинны были эти и другие остроумные рассуждения Шишкова, иные из которых напоминают цитаты из «Горя от ума» Грибоедова. Сам Шишков прекрасно владел несколькими языками, издал ряд книг по военной специальности, в том числе морской словарь, писал неплохие стихи, много сил отдал изучению древнерусской литературы, в частности, перевёл и подробно прокомментировал «Слово о полку Игореве».
Но, ополчась противу всего иноземного, Шишков был односторонен и в своей прямолинейности доходил до абсурда. Не пощадил он и Карамзина. Карамзина, кумира читающей публики, писателя, автора «Бедной Лизы» и других произведений, свежий и гибкий язык которых был главной причиною успеха!
Россия речью той пленилась
И, с новой грамотой в руке,
Читать и мыслить приучилась
На карамзинском языке... —
восторженно писал позднее князь П. А. Вяземский. Карамзин постарался очистить язык от славянизмов и церковной лексики и ввёл множество новых слов, им счастлив© придуманных. Таковы, например: влияние, обстоятельство, развитие, утончённый, переворот, трогательно, занимательно, промышленность, будущность, носильщик, оттенок, потребность, усовершенствовать... Все эти карамзинские «выдумки» остались и удержались, как и принявшие русское «подданство» французские слова: сцена, эпоха, гармония, катастрофа, процесс, серьёзный, моральный... Впрочем, и он порой излишне увлекался французским изяществом, и тогда появлялось что-нибудь вроде «элеганс».