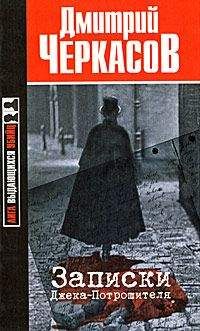В 6 часов утра на дворе флотского экипажа в Кронштадте, трубач заиграл побудку.
Услышав звук трубы, новобранцы очумело вскакивали, заправляли койки, наскоро, не отвлекаясь на разговоры, грелись чаем с чёрным хлебом, и взвод из сорока человек строился в камере на молитву и гимнастику.
— Что, тяжело с мякинным–то брюхом упражнения производить? — встал насупротив Семёна Северьянова плотный, с выпуклым животом боцманмат и стал громко отсчитывать количество приседаний. — Давай, давай, ещё раз, ещё раз. Встать, смирно. Выкинуть руки вперёд, вверх, в стороны. Северьянов, резче, резче работай плавниками. Бери пример со своего земляка Дрищенко, — загоготал старослужащий моряк. — А теперь, коли вспотели, как лягушки, зачнём лягушачье путешествие. Опустились, салаги, на корточки в затылок друг другу. Положили свои лягушачьи лапы на плечи соседней жабы и запрыгали вдоль стен.
Понаслаждаться зрелищем зашли несколько старослужащих.
— Остап Иванович, а ты их ишшо квакать заставь, — давали они советы инструктору.
— Без вас знаю, что делать. Теперь, караси, надевайте бушлаты и на улицу. Маршировке учить вас стану, захождениям и поворотам всяким.
Переваливаясь, словно в качку, перед новобранцами, боцманмат, сделав зверское лицо, прокурено прохрипел:
— Коли я скомандовал: «Смирно», замрите и не дышите, щучьи дети. Забудьте, как родителев зовут и слушайте, что дальше последует от меня, — оглядел унылых «пескарей». — Бегом — арш! — выдал команду. — Северьянов, чего распыхтелся как беременный кашалот? Ровней дыши, чёртов пескарь. А теперь, ёршики — на ружейные приёмы — арш.
— Ох, Герасим, как здорово, что я земляка на флоте встретил, — отдыхая после обеда, делился своими мыслями Семён Северьянов. — Семь лет нам этими, как их, щучьими детьми быть.
— Выдюжим! От одного кондуктора случайно услыхал, будто скоро срок службы скостят, — полюбовался тельняшкой Дришенко. — В следующем месяце присягу примем, матросами второй статьи станем, на корабль попадём. Там полегче будет.
— Хорошо бы вместе оказаться, — размечтался Северьянов. — И есть как назло, хочется, — вскочил и встал по стойке «смирно», увидев вошедшего в камеру боцманмата.
— Сейчас материться начнёт, — не спеша поднялся с койки Дришенко. — Его окончание чина на это подбивает.
— Чего, мать вашу, как сонные рыбы вылупились? Сейчас матросский устав учить станем. А перед этим ещё раз объясню, как чины различать, — разрешил новобранцам сесть на койки. — После матроса второй статьи, на чёрный погон нашивается лычка и присваивается чин матроса первой статьи. Запомнили, воблы вяленые? Прослужив ещё, можете заработать чин квартирмейстера. А вот ежели после него третья лычка появится, — выставил плечо с погоном, — то получится целый боцманмат.
— Как старший унтер–офицер в армии.
— Тьфу! Даже не вспоминай при мне, Дрищенко, о сухопутных моржах.
— А они, как их, щучьи дети, нас зёбрами обзывают, — гордо выставил грудь в тельняшке, поостерегшись поправить инструктора насчёт фамилии.
— Чем?! — вылупил глаза боцманмат. — Это что ещё за рыба?
— Полосатая такая. Как тельняшка.
— Вот же что придумали, водоросли зелёные. Ну, попадутся мне в кабаке ноне… Так. Не отвлекайсь от лычек. Затем идёт боцман, — вожделенно закатил глаза. — Евойный погон украшен широкой поперечной лычкой. Следом, из недосягаемой морской глубины выныривает чин кондуктора. Широкая продольная, жёлтая, словно мёд, — облизнулся моряк, — красавица лычка. Потом идут чины небожителей. Первый из них — мичман. На золотом погоне с одним просветом сияет офицерская звёздочка. Старше него — лейтенант. У него три звёздочки. Потом — капитан второго ранга. На погоне два просвета и три звёздочки. Как увидите два просвета — станьте во фрунт, не дышите, и рука у бескозырки. Запомнили? Над ним стоит капитан первого ранга. Золотой погон с двумя просветами без звёздочек…
— Как у армейского полковника.
— Ты опять за старое, Дрищенко. Велено тебе было не поминать этих… — не отважился сказать кого, боцманмат, ибо полковник, он и на Мадагаскаре полковник. — Теперь погоны богов, — вытянулся во фрунт и приказал всем встать по стойке «смирно». — Контр–адмирал — с орлом на погоне. Вице–адмирал — с двумя орлами. И с тремя — адмирал, — уставился в окно, разглядывая бушующие там, всплывшие в памяти шторма и бури. — Это девятый вал. Вам, да и мне тоже, лучше с ним не встречаться…
Московский дом Бутенёвых—Кусковых погрузился в траур. И не тот, внешний, показной, с чёрными ленточками на флагах, а настоящий, глубоко внутренний. Семья переживала безмерное горе.
Дмитрий Николаевич как–то сразу заметно постарел и осунулся. Черты лица его обострились, а глаза беззащитно и скорбно глядели на окружающих, пряча тоску и слёзы за стёклами пенсне.
Вера Алексеевна, к удивлению Глеба, сразу поседела, но старательно прятала в себе чувства скорби от обрушившегося на семью несчастья, успокаивая и морально поддерживая дочь и Зинаиду Александровну.
«Она стала выглядеть как святая на иконе», — подумал Глеб, незаметно разглядывая бледное строгое лицо и тонкие, словно выведенные иконописцем, дуги бровей.
Натали сделалась ко всему безучастной и, по мнению Глеба, излишне задумчивой и молчаливой.
Понимая её состояние, он пробовал отвлечь от грустных мыслей и как–то развлечь девушку. Наняв извозчика, с разрешения Веры Алексеевны, катал её по Москве, но Натали, односложно отвечая ему, задумчиво и безразлично глядела на дома и прохожих, а пальцы при этом бессознательно комкали в глубине муфты носовой платок.
— Натали, а давай отведаем кофе с пирожными, — предлагал Глеб, проезжая мимо кафе.
Девушка отрицательно качала головой.
— Ну, тогда посетим музей? — без особой надежды вопрошал он, любуясь жёлтыми глазами с плохо скрываемой тоской и грустью.
Но она вновь отрицательно качала головой.
Тогда он принимался рассказывать ей смешные, на его взгляд, вещи из жизни полка, в глубине души надеясь вызвать на губах хоть мимолётную улыбку.
— Представь себе, мой командир батальона полковник Рахманинов, недавно, высочайше, чин пожаловали, свободное время посвящает ваянию.
— И как у него, получается? — безразлично интересовалась Натали, вслушиваясь в жалобное пение полозьев по мёрзлому снегу.
— Корнет Соколовский утверждает, что он гениально изваял кисточку львиного хвоста, поставленного перед входом в казарму. Ха–ха–ха! Мг–г–да… — вновь принимал серьёзный вид, удручённо размышляя, что б ещё сказать смешное. — Правда, сейчас он лепит скульптуру гусара Дорохова — отважного героя Отечественной войны двенадцатого года.
— И как, получается?
— Ну да! — обрадовался, уловив в её тоне нотки заинтересованности. — Соколовский отказался служить моделью героического гусара, и полковник уговорил другого корнета. Но как это случается с полковниками, готовясь делать гипсовый слепок, запамятовал смазать усы и бороду несчастного маслом. Застывший гипс снимали с помощью молотка и кинжала, забрав перед этим у корнета наган. Так, на всякий случай. Не отдают до сих пор, так как он ходит с абсолютно, по выражению Соколовского, лысым лицом, и плюёт в своё отражение, видя его в зеркале.
— Искусство требует жертв, — краешком рта улыбнулась Натали, до смерти обрадовав этим поручика.
— А когда в летнем лагере корнет Соколовский ухаживал за девушкой, — заметил внимание в глазах Натали, — очень активно ухаживал, — многозначительно произнёс Глеб. — То на вопрос деревенской красавицы: кто будет отвечать, если наступят неприятные последствия, с уверенностью произнёс: мой командир! — А кто это? — удивилась сельская нимфа. — Как кто? Полковник Рахманинов, — немного развеселил Натали.
— В вас воспитана безусловная вера в командный состав, — улыбнулась она кавалеру. — И чем ещё славен этот гениальный полковник–скульптор?
— О-о! У него много гонора и апломба. Внушив себе, что он выше… этого… Микеле Анже'ла?.. — вопросительно глянул на даму.
— Анже'ла — это, видимо, подруга вашего корнета, — немного отвлеклась от грустных мыслей. — А величайшего мастера итальянского Возрождения, скульптора и художника, величали Микеланджело Буонарроти.
— Так точно! — подтвердил Глеб… — и вот этот российский Микеле Рахманинов, при встрече, горделиво протягивал нам, молодым офицерам, для рукопожатия лишь два своих великих пальца. Сговорившись, мы стали отвечать гению полкового ренессанса тем же. Скульптор мигом усвоил урок, — хохотнул Глеб.
На следующий день Рубанов с Соколовским надумали совершить конную прогулку за город.
— Совсем лошадь зажирела, — взлетел в седло поджарый ловкий корнет. — Не лошадь прям, а бегемот.
— Не бегемот, господин корнет, а кит, — тоже уселся в седло Глеб. — А вон и князь Меньшиков с каким–то указанием идёт, — лениво перебирал поводья, ожидая командира эскадрона.