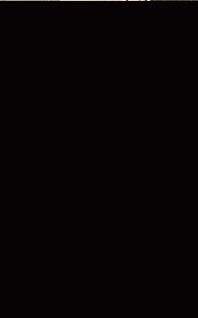Доктор. Повторяю вам, мадемуазель, болезнь может протекать очень, очень медленно... Переутомление, особенно публичные выступления понемногу разрушали сердце. С другой стороны, у вашего отца, еще в детстве, наблюдались признаки... анемии. Его энергично лечили, и болезнь удалось остановить; более сорока лет он не чувствовал ее последствий! К несчастью, он заболел плевритом, который мы лечим вот уже...
Мари. Два года...
Доктор. ...Вот тогда и произошло то, что в таких случаях бывает: воспаление бронхов способствует проникновению микробов, и это вызывает внезапную вспышку дремавшего в организме туберкулеза... (Движение Мари.) Да, это нередко случается даже после сорока лет затишья; старые болезни проявляются вновь... Но я повторяю вам, мадемуазель, у стариков эти болезни протекают замедленно, с ослабленными симптомами, с временными улучшениями и ухудшениями.
Мари (глаза ее устремлены на доктора). И сейчас у него ухудшение?
Доктор. О, совсем неопасное... Несколько дней назад ваш отец простудился; и это недомогание тотчас же отразилось на его общем состоянии.
Мари. Благодарю вас, доктор. Это все, что мне хотелось узнать.
Квартира Баруа: две комнаты с низким потолком, кухня.
Баруа лежит у окна так, чтобы ему было видно, что происходит во дворе.
Мари, засучив рукава и надев фартук, наводит порядок в комнате.
Баруа. Я вас умоляю, Мари, не надо... Придет женщина и все завтра утром уберет.
Мари. А разве она не приходит по вечерам?
Баруа (улыбаясь). Нет.
Мари. Кто же вам готовит обед?
Баруа. Привратница. (Весело.) Вы знаете, обед в одиночестве проходит так быстро...
Мари (помолчав). Признайтесь, отец, вам не хватает Паскаля? Я вам не раз говорила...
Баруа (стесненно). Нет, нет. За мной хорошо ухаживают, я ни в чем не нуждаюсь... К тому же у меня слишком тесно, здесь нет места для слуги.
Молчание.
Мари опять принимается за уборку. Баруа следит за ней глазами.
Она проходит вблизи от него, он ловит ее руку и прижимает к губам. Она улыбается; но в глазах у обоих невысказанная мысль.
(Гладя руку Мари.) Узнав, что до пострижения вы проведете неделю в Париже, я мечтал об этих днях, как о празднике! А получилось так, что, когда вы навещаете меня, вам приходится быть сиделкой!
Мари. Вы приедете ко мне, в Васиньи...
При упоминании о монастыре щеки ее розовеют.
Баруа. Но ведь послушницам запрещено видеться с кем бы то ни было?
Мари. Да. Но им разрешают проститься с близкими накануне пострижения...
Слеза катится по ее улыбающемуся лицу. Баруа выпускает ее руку.
Баруа. Вашей матери неприятно будет встретиться со мной там...
Он старается говорить равнодушно, но в голосе слышится вопросительная интонация. Исподтишка он с беспокойством наблюдает за дочерью.
У нее вырывается протестующий жест.
(Почти весело.) И потом, милая моя Мари, я уже не в состоянии путешествовать...
III. Баруа объявляет Люсу, что отказывается от поста главного редактора "Сеятеля"
В скромной квартире на улице Пасси.
Люс - за письменным столом.
Увидя входящего Баруа, он торопливо снимает очки и идет ему навстречу.
Люс. Я потрясен, дорогой друг... Что случилось?
Запыхавшись из-за подъема на четвертый этаж, Баруа устало садится, прижимая руку к сердцу; улыбаясь, он как бы просит о передышке.
(После короткого молчания.) В вашем письме нет никакого серьезного основания...
Баруа. Прошу вас, мой добрый друг, не пытайтесь меня разубедить. Решение мое окончательно.
Люс с непонимающим видом пожимает плечами и снова усаживается за стол.
Я уже давно об этом думаю; это не внезапная блажь.
Люс (заботливо). Начните какую-нибудь новую работу, Баруа, и вы увидите: все станет на свое место!
Баруа. Я не в силах приняться за что-либо новое. (Озабоченно.) К тому же, я скоро уеду... Вы знаете, в Бельгию, на обряд... Моя дочь...
Люс (быстро). В таком случае подождите, прошу вас; ничего не решайте до своего возвращения.
Баруа догадывается, о чем думает Люс, и горестно
улыбается.
Баруа. Нет, не в этом дело... Я уже ни физически, ни морально не могу быть таким руководителем, какой нужен "Сеятелю". Нет былой энергии, И читатели это чувствуют. А сотрудники тем более! В самом деле, с каждым днем я все меньше и меньше направляю журнал: теперь вновь пришедшие молодые люди задают тон. А я человек старый, отсталый и внушающий недоверие... (С горькой улыбкой.) И потом Брэй-Зежер уже давно ждет моего места... (Вытаскивает из кармана свернутую рукопись и кладет ее на стол.) Вот. Я хотел показать вам: нечто вроде исповеди, завещания... Я намерен посвятить этому номер "Сеятеля". Я не хочу уходить, как побежденный... понимаете? Последний номер я сделаю сам, весь целиком. Потом я умолкну.
Люс. Вы не выдержите!
Баруа. Почему? Врачи как раз предписывают мне покой; они настаивают, чтобы я уехал из Парижа и поселился за городом, на свежем воздухе...
Люс. Такой человек, как вы, не может добровольно обречь себя на молчание.
Баруа. Нет, может!.. Есть в жизни этапы, когда надо уметь остановиться, критически посмотреть на себя и решить, что делать дальше.
Люс (наклонив голову). Предположите на минуту, что мы поменялись ролями и это я пришел сказать вам: "Я бросаю все, отказываюсь от жизни".
Баруа. О, вы не имеете права! Другое дело я...
Люс. Я ничем не отличаюсь от вас...
Баруа. А ваша мудрость, которая помогает переносить все, что творится вокруг... Именно в этом и состоит разница между счастьем и несчастьем.
Люс (улыбаясь). Так легко найти свое счастье в том удовлетворении, какое дает человеку умственный труд.
Баруа (ожесточенно). Он меня больше не удовлетворяет!
Пауза.
Мне надоело барахтаться в жизни, смысл которой мне непонятен...
Люс сидит, скрестив руки, опустив глаза. При последних словах Баруа он поднимает задумчивый взгляд и, прежде чем ответить, несколько мгновений молчит.
Люс. Вот самое больное место... Но зачем во что бы то ни стало доискиваться смысла жизни? Зачем все время ставить эти неразрешимые проблемы?
Баруа (с внезапной запальчивостью). Зачем? Да затем, что, если я умру, так и не получив ответа, труд всей моей жизни окажется напрасным! Разве мне, Баруа, будет легче от мысли, что через две тысячи лет люди будут знать немного больше, чем мы? Ведь сейчас эта загадка мучит меня, да, меня!
Люс. Надо помнить, что Моисей не вступил в обетованную землю...
Баруа (с невольной враждебностью). Ах, я просто не понимаю, что вы за человек! Можно подумать, что вы никогда не сталкивались со смертью. Вы ведь страдали, однако, теряли близких. После смерти вашей жены...
Люс (глухим голосом). Да, тогда я был в полном отчаянии... Несколько недель. (Поднимая голову.) А потом, однажды утром, в саду - мы жили тогда в Отэе - ... я хорошо помню, как вдруг снова увидел деревья, солнце, детей... И понемногу преодолел горе.
Баруа. А вот я не знаю ни минуты душевного покоя с тех пор, как почувствовал, что конец мой близок! Раньше я думал: "Да, она придет, она настигнет меня, как других..." (Прижимая руку к сердцу.) Но сейчас я знаю, как это произойдет, и все изменилось! Я чувствую, как она вонзила мне в грудь свой гарпун, и он держит меня за дряблую больную плоть, обрекая на гибель меня самого, мой труд, былую радость жизни... О, я не могу примириться с небытием!
Молчание.
Люс. Мы по-разному смотрим на вещи. Я считаю, что жизнь и смерть неотделимы друг от друга. Это - две стороны одной и той же тайны... Вот уже много лет я так думаю, и разум мой никогда не восстает против этого.
Баруа. Такое примирение мне не по силам!
Люс. Я не примиряюсь! Но и не возмущаюсь. Я чувствую себя таким ничтожным, когда думаю о непреложных законах вселенной... Я привык к мысли, что я - лишь мельчайшая частица мира, которая подчиняется своей судьбе; я думаю о себе в связи с прошлым и с будущим и заранее знаю, что буду жить в тех, кто станет заниматься тем же делом, что и я. (С улыбкой.) Повторяю вам: удовлетворение, которое дает умственный труд, имеет для меня огромное значение: смерть становится понятна, если подходить к ней с разумной точки зрения, и мне это помогает принимать ее так же естественно, как я принимаю рождение.
Баруа. Я вам завидую.
Люс. Каждый может обрести такое спокойствие!
Баруа качает головой.
(С упреком.) Уверяю вас, будь я парализован, как вы, мыслью о смерти, я бы заставил себя преодолеть ее. Мы - частица мировой жизни, и только мы, быть может, сознаем свое бытие; это сознание обязывает нас жить как можно деятельнее. Неужели это вы, Баруа, вы, кто так любил жизнь?!
Баруа (с отчаянием). Но я люблю ее сейчас больше, чем когда бы то ни было, друг мой, и это-то мне и мешает примириться с мыслью о конце! Чем сильнее я люблю жизнь, тем труднее мне согласиться с условиями, на которых она нам дарована. Неужели сознание дано нам лишь для того, чтобы понимать неизбежность небытия?