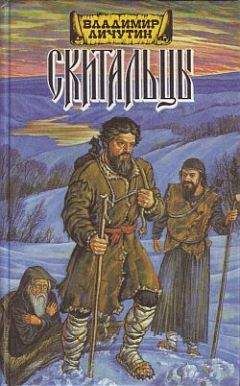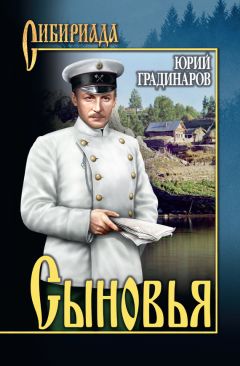Михайло Гренадер быстро выметал трос вместе с баклажкой, а зверь еще долго искал глубины, чтобы уйти от постоянной нетерпимой боли. Ему жгло тело, соль попадала в рану и раздражала. Морж пробовал уйти еще глубже, там, где студенее вода, и охладить, успокоить душу, но что-то неотвязно держало зверя и не пускало ближе ко дну. Тогда морж выметнулся наверх, где небо сливалось с морем, и своим звериным умом понял и отыскал обидчика и стал топить баклажку могучими клыками. Но бочонок словно смеялся и отзывался на удары глухим железным кряком. От злости и боли терялась сила, и морж все реже колотил тинками окованную баклажку.
И когда зверь стал чаще выставать из воды, пришла пора брать его на затин, а тут уж робеть нельзя и размышлять не время. Михайло Гренадер готовил ружье, а Яшка снова подал карбасок к каменистой корге, и еще не ткнулся тот в берег, как Калина птицей вымахнул на отмелое место, всадил пешню в камень, но она звякнула железом и соскользнула. Тогда торопливо подал ее в крохотную расщелинку и надавил грудью. Руки гладко обжимали накатанную березовую рукоять, плечи наливались усталостью, а ремень гудел и вырывал из рук пешню: ведь на другом конце хвоста, сажен за пятьдесят от Калины, рвался на свободу неистовый морж. Он ходил колесом, делая круги, то проваливался в глубины, но останавливала баклажка, то вылетал из воды, и тогда Калина быстро накручивал ремень на пешню, прижимая зверя к себе. Вот и до баклажки достал кормщик, считай, что зверь в руках, взят на затин; слава Богу, разговелись, размочили промысел... Но киснуть нельзя, зверь хитер, Богом данный зверь.
– Стреляй, чего вылупился? – крикнул Калина Гренадеру. Кормщик почувствовал, что устал, годы не те, спина в пояснице хрустела и немела, и даже втайне пожалел мужик, что по-молодецки ввязался в рисковое дело. Хотелось на все плюнуть, откинуть с пешни ладони и лечь на спину; но брал задор, а задор был сильнее человека. Калина крепился, выпехивая языком жаркую спекшуюся слюну.
– Стреляй, чего глядишь? – снова крикнул, но уже нетерпеливо и зло.
Гренадер похмыкал, выбирая ногами опору, он хорошо знал свое дело, упирался в телдоса, прилаживал ружьишко к плечу, притирался к прикладу щекой. Гренадер высматривал моржа, чтобы пульнуть его ловчее, взять на раз, стрелить в зашеек, где кость тоньше, потому как на висках не пробьешь ее, расплющится пуля. А тогда нет зверя лютее, там и до беды недалеко.
– Мы верняком, мы сейчас зануздаем.
Словно небо раскололось, покатился выстрел, плюнула фузея огнем и пороховой гарью, толкнула Гренадера в плечо, ободрала щеку, и мужик оступился, чуть не опрокинулся в море. Пуля, наверное, вошла в голову, потому что морж обмяк, заленивел, и тут Калина посчитал, что зверя кончили, а сейчас волоки его на берег, как сальную бочку.
И он на какой-то миг ослабил ремень, не выбрал на пешню слабину, но тут оглушенный морж рванулся с последней предсмертной мукой, ступня у Калины скользнула по мокрому камню и попала в ременную петлю. Кормщик еще пробовал выстоять, напирая на пешню, но острие поддалось в расщелине, ладони соскочили с рукояти, и, падая на спину, Калина ощутил, как хрупнула в ременной петле нога, а его самого неумолимо тянет в прибойную студеную воду. Раздирая в кровь пальцы, он пробовал ухватиться за скользкие голыши, но они уплывали из ладоней, и голова билась о замытый придонный камень.
«Вот и отмолился. Прощевайте все, люди добрые», – запоздало подумал Калина, тяжко выталкиваясь из воды и ловя резкий, какой-то пустой воздух, от которого только саднело в груди и не было сил им надышаться.
Пока мужики растерянно суетились и гребли в море, зверь кончился от смертельной раны и всплыл, развалисто покачиваясь на волне. И тут же запузырилась оленья малка, и кормщик, прозрачный и смертельно бледный лицом, с великим трудом выгребся на поверхность. Его тут же подхватили и втянули в карбас. Кормщик был, наверное, без памяти, хотя глаза, казалось, подсматривали за Яшкой и Гренадером. Правая, почти начисто снятая придонным камнем бровь вздрагивала, и было видно, как в живом мясе бьется заголившийся нерв. От виска через лоб и всю щеку шел глубокий царапыш, он вздулся и посинел от холода, но кровь не шла. Все разглядели мужики, когда испуганно гребли к разволочной избе, не забыв однако, приторочить к корме убитого зверя. А море ожило и закипело, пронзительно вопили чайки, срывая с сивых длинных гребней ошметки пены. Ветер-полуночник все мчался к канской земле и строгал, строгал длинные волны, а вода меж них, в глубоких живых яминах была студена даже на глаз.
Мужики, как могли, обиходили кормщика, перевязали его, выпрямили порванную ногу, подложили сухой лучины и натуго обмотали холстиной. Кормщик лежал беспамятный, не просил есть-пить, сбивал на сторону овчинное одеяло, которым загрузили его с головой. Линялый короткохвостовый петух бродил по кормщику длинными желтыми ногами и клевал несильно по овчине, словно поднимал хозяина.
Калина очнулся через неделю. Все было перед ним в призрачном тумане, лица мужиков, обступивших его, колебались, становились чужими, порой пропадали совсем, и он видел у порога только костлявую старуху с косой: она улыбалась скуластым сухим лицом и звала: «Ну поди, поди ко мне, голубчик ты мой». Калина понимал, что это стоит смерть на пороге, но не пугался ее, а принимал с тихим смирением, а потому покорно шептал: «Сейчас, ужо погоди. Сейчас приду».
Вдруг туман растворился, и Калина это понял так, что Бог ему дает маленькую передышку, чтобы проститься с товарищами.
– Наробился, знать, – сказал он ясным тихим голосом, и мужики сдвинулись еще ближе. – Теперь отдохну, на долгий отдых повалюся.
– Погоди помирать-то, еще успеешь...
– Не, не, дайте сказать. Душа чует... Живите с миром, Господь с вами. Не возвышайте себя. Все кончится, все прахом изыдет, осподи... Живите с миром. Простите, ежели чем согрешил. Знать, не придется увидеть жонку, а как встретите... скажите... низко кланяюсь и целую остатний раз. А деткам посылаю родителево благословение на всех цветущих летах... Сейчас иду... Зовет смертушка-то. Осподи, темь-то какая. Солнышка бы.
Кормщик опустил голубые одрябшие веки, на переносице скопилась влага, бессильно пролилась через край.
– Осподи, солнышко-то какое... Зреть не можно. – вдруг прошептал Калина, вздрогнул всем телом, глаза открылись, и свет от сальницы не утонул в стеклянной неживой глубине.
На другой день кормщика Калину Богошкова схоронили в тяжелой каменистой земле и на кресте высекли:
«Здесь Дорогой Горы деревни крестьянин Калина Богошков от несчастливого промыслу на долгий отдых повалился летом 1838 года».
Выследила Евстолья, куда бегает по ночам пасынок, пометалась туда-сюда и рассказала отцу. Петра Афанасьич пришел к Тайке будто бы навестить да расспросить, не надо ли чего по хозяйству, вот он собирается нынче же на Маргаритинскую ярмарку в Архангельское, так привез бы. От него не укрылось, что Тайка переменилась, робкий румянец родился на похудевшем лице, а в глазах проглядывала настороженная радость.
Разговора у них не получилось, Тайка отмалчивалась, часто скрывалась за ситцевой занавеской и подолгу задерживалась там, словно не хотела видеть отца. И, глядя в смутную тень на занавеске, Петра Афанасьич наконец сказал:
– По деревне-то о тебе худо говорят.
– Ну и пускай говорят, – тень на занавеске застыла. А Петра Афанасьич подумал: «Вот стерва-то, и не скрывает даже греха».
– Как пускай, нашу фамилию порочишь.
– Во как заговорил, – сухо рассмеялась Тайка. – Сначала дочи продал за постылого, а теперь...
– Но-но, – грозно возвысил голос Петра.
– Чего но-то? – появилась Тайка, белая в лице и вся взъерошенная. – Чего но-то? Еще указывает тут мне.
– Яшка вернется, тебе голову отвернет.
– Не твоя собачья забота...
– Во как ты с батюшкой заговорила.
– С тобой иначе нельзя...
– Да я тебе сейчас за волосье-то выволочу, я тебе таких тяпух по голой заднице надаю, веком не забудешь, – зло закричал Петра Афанасьич. – Она еще на батюшку родного голос поднимает, стерва, распутна девка, дьявольское семя. Да я тебя...
– Только посмей, ирод, насильник, – тонко взвыла Тайка, не помня себя выхватила из подпечка рогач, наставила Петре Афанасьичу в лицо. – Я тебе глазища-то все напрочь высажу. Зверина...
– Ноги моей больше не будет у вас.
– Вот и хорошо, вот и славу Богу.
– Прокляну...
– Хуже не будет...
– Тьфу, нечистая, – зло хлопнул дверью.
А Тайка упала на место, досыта выревелась, сразу полегчало; с нетерпением стала поджидать Доньку. Тот пришел в сумерках, раздевался у порога, как муж, как хозяин, в шерстяных носках мягко, по-кошачьи ступая, подкрался к Тайке:
– Урр, я волчище-коготище, я тебя съем.
Тайка лежала на кровати, прикрыв лицо ладонями, слышала, как раздевался Донька, и не поспешила радостно к порогу, чтобы помочь стянуть бахилы с уставших ног, а потом как бы намертво прижаться к его груди, пропахшей смолой и костровым дымом.