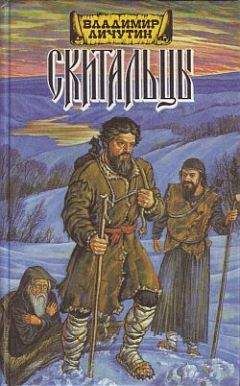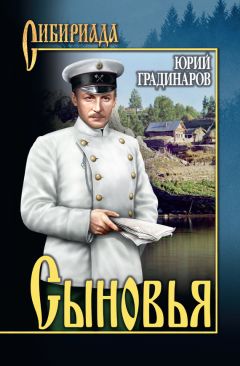С этим чувством он завтракал, и Евстолья радовалась его посветлевшим глазам; потом как зверь работал, только рукоять киянки – деревянной колотушки, за которую натягивал еловую веревку, – дрожала, готовая сломаться. Работал, будто кто гнался за ним иль обет дал перед Христом-Богом; до полудня пот со лба не стряхнул, рубаха на спине взмокла. А душа по-прежнему дрожала: что-то должно случиться.
Часто озирался на Яшкин дом, караулил Тайку. И будто кто в спину толкнул, оглянулся – она за водой пошла. Черный плат на голове по самые брови повязан, руки распялены на коромысле, как на кресте. Издали приметила Доньку, растерялась, словно черный кот дорогу перебежал, засуетилась, но другого пути к реке нет, только здесь мосточек, откуда воду берут. Вот и направилась в Донькину сторону, как невольница, а у парня сердце дрожит: что-то будет.
Искал ее глаза – не высмотрел. Но только прошла мимо, тут и дернул черт парня за язык, шепнул Донька вослед девке: «Жди, приду нынче». А может, ветер прошелестел иль красный камень-арешник осыпался с горы, потому что даже Донька вздрогнул, услыхав эти слова, вроде не сам и выронил их. Тайкины плечи слабо колыхнулись, но не обернулась девка, и когда обратно шла – не взглянула, только поднималась в гору уже неловко, вроде бы в чужих одеждах была.
Никогда так нетерпеливо еще не жил Донька, как сегодня, и, чтобы поторопить ночь, даже пораньше завалился на полати, сказавшись больным. Евстолья захлопотала, мол, ой, да как же это, не прохватило ли у реки, там такие сквозняки гуляют, и может, баньку истопить, жаром всю хворь-простуду выгонит. Но Донька отказался, какая на ночь глядя баня, ложись давай спать-то, до утра переможется, а там видно будет. Затих на полатях, притворился спящим. Евстолья сразу отступилась от пасынка, уложила в зыбке сына, еще долго гундосила перед образами с причитаньями и мокрыми всхлипами, а Донька досадовал, всю мачеху приругал, что угомону на нее нет, бродит и бродит по избе, как корова, и сон-то ее не берет. И будто услыхала Евстолья Донькину досаду, повалилась на место, еще недолго что-то бормотала «осподи, осподи» и сразу захрапела мучительно и тяжко, словно били ее во сне.
Донька переждал еще немного, потом тихо скользнул с полатей, крадучись, босиком, вышел на улицу и, будто сговорившись с Донькой, ни одна петля на воротах не скрипнула, не выдала парня.
На улице было тихо и тускло, белая ночь еще не умерла, и утро не народилось, небо пустынно серело, полное покоя и бесконечной глубины. Деревня спала, она стояла на взгорках россыпью синих валунов; от шероховатых стен доносило еще не угасшим теплом, земля отдыхала, и пыль на дорогах свернулась желтыми пузырьками. Хоронясь за избами, Донька быстро проскочил околоток, огляделся перед Яшкиной избой и, не чувствуя за собой никакого греха, торопливо постучал в боковую окончину. Приложил ухо к стене, и словно бы услыхал, как задышала, шевельнулась изба: где-то в глубине пронеслись едва уловимые шорохи и растворились: наверное, там кто-то стоял посреди пола босой, в исподней рубахе и ждал, когда снова постучат – позовут.
Донька метнулся вдоль стены к небольшой двери и рубчатым кованым кольцом постучал сначала робко, сдерживая сердце от гулкого разбега, но изба таинственно молчала, и только казалось, что в теплой пустоте кто-то длинно и тонко воет: это кровь шумела в Донькиных ушах. Парень переждал, но снова постучал, уже требовательно и зло, чувствуя в себе нетерпение, похожее на гнев. Если бы вся Дорогая Гора сейчас с интересом и любопытством столпилась позади него, и это бы не остановило Доньку.
Где-то далеко открылась дверь, прошелестели шаги, потом осмелели и уже зашлепали по половицам гулко, остановились у двери. Тайкин голос робко спросил:
– Кто там?
– Это я...
– Кто я? Леший носит среди ночи.
– Это я, Донька...
– Ну чего тебе? – сухо и безразлично спросила Тайка, и голос ее из-за двери показался холодным, чужим.
– Пусти, мне надо што ли сказать тебе. Пусти, Богом прошу.
– Ты што, сдурел? Че люди скажут. Поди, поди давай, домой-то.
– Тая, Тасенька, Таисья...
– Ну што тебе? – Голос за дверью дрогнул.
– Я тебя так люблю, мне без тебя вовсе не житье, – взмолился Донька, касаясь пересохшими губами теплых дверей.
– Зачем ты меня изводишь? За што ты меня мучашь, скажи на милость. Уйди, Христа ради прошу. – Слышно было, как снова в глубину захлопали босые ноги, душа у Доньки взметнулась вверх и остановилась под самым горлом. Задыхаясь, он крикнул, не сдерживая голоса:
– Не уходи, Тая! – и забрякал ногою в дверь.
– Ой, што ты со мной делаешь. Деревню всю подымешь. И нисколько тебе меня не жаль, выходит. О себе только думать. Поди, Донюшка, не трави себя, – ласково, с такой грустной нежностью сказала Тайка, что парню захотелось вынести плечом дверь и подхватить любимую на руки.
– Отвори, Тая, касатка, голубушка, солнышко ты мое незаходимое, – тупо бормотал Донька, царапая ногтями дверное кольцо. Он чувствовал, как Тайкин голос наполнился слезами.
– Обвенчана я, продана. Где ты ране-то был? Пошто меня не увез, не умыкнул.
– Где-где, будто к вам попадешь. Отец-то, как сыч, караулил тебя. А я-то, осподи, где Яшку поймаю, все выспрошу про тебя, весточку прошу передать, а он-то, чего про тебя...
– Христос с ним, Донюшка. Бог ему судья...
– Он-то и баял, что ты от меня отвернулась и видеть боле не хочешь.
– Поди, поди прочь, – закричала Тайка. – Я буду верной женой. Все, разминулись наши путики.
– И будто бы смеялась надо мной, – упрямо продолжал Донька. – Как он сказанет такое, у меня сердце-то и...
– Што ты, Донюшка, поклеп это. Осподи, да и не было веком такого разговора. Да я ли тебя не любила. Ну да Бог с ним. Уходи, Христом прошу. – Тайка зарыдала, и вдруг за дверями что-то загремело, словно свалился на тесовые плахи человек, потом раздался тонкий равнодушный смех, и волосы на Донькиной голове встрепенулись от страха.
– Тая, што с тобой? Отопри, говорю тебе, отопри, – забрякал Донька в дверь, где-то в ответ заполошно подняла голос собака; от хриплого лая парень очнулся, забежал на взвоз, как вор просунул прут в щель ворот, приподнял щеколду и проник на поветь.
Тайка беспамятно лежала около двери, порой какая-то странная сила встряхивала ее беспомощное тело, и тогда голова гулко опускалась на тесовые плахи. Девка была сейчас вне жизни, она летала в черном гудящем пространстве на демоновых крыльях и не видела и не слышала, как осторожно взял ее Донька на руки и, целуя помертвелые губы, понес в избу...
И когда под самое утро пасынок вернулся в дом, Евстолья встретила его испуганно и настороженно.
На десятый день собственным радением да с Божьим благословением добежали до каменистого островка близ Новой Земли, родового промыслового владения Богошковых.
На острове были разволочная изба, ледник, баня и полдюжины покосившихся черных крестов, около которых мужики и постояли молча, обнажив головы. Изба срублена у крохотного озерца с пресной водой: там, внизу, наверное, били неутомимые родники, потому жгучая влага не иссыхала меж черных базальтовых камней, а обросшая по берегу белесым болотным пухом и ржавым пятнистым мхом, казалась особенно студеной и светлой. Кормщик Калина Богошков первым делом зачерпнул прозрачной холодянки и ковш обнес по кругу. «Вот мы и дома», – молвил он, не утирая влагу, и она крупно, будто роса, задрожала на его толстых светлых усах.
Потом отставил в сторону обломок весла, открутил с пробоя толстую пеньковую веревку – не от людей было закрыто, а от ушкуйника-находальника. Медведь побывал, наверное, здесь под самую весну, потому как на линялом снегу в тени за избой виднелись круглые когтистые следы, сивая шерсть колыхалась на углах избы, – знать, чесался зверь, и белесые чирки от жестких лап остались на потемнелых стенах...
Сыростью пахнуло в избе: легкий покров пыли лежал на деревянных нарах и на печке-каменице; давно не гретый чистым пламенем воздух застоялся, и черная сажа длинными хлопьями свисала с потолка. Пол подгнил и прогибался, под ногами хлюпала ржавая вода. В волоковое окошечко падали предвечерние слепящие потоки солнца и застревали на столешне, не в силах пробиться далее.
Первый вечер с берега перетаскивали снасти, еду и одежды, кололи в низине под головастой базальтовой скалой прозрачный лед и забивали ледник. Калина помогал мужикам развешивать сети, осматривал их, где нитку обрезал ножом, где ячею убирал; отколупнул от поплавка кусок бересты – все это собрал в котел, развел под ним костерок и стал тем дымом окуривать снасти, чтобы жирный голец ловился.
Солнце, будто привязанное, не скатывалось с высокого холодного неба, и там, где купалось его слепящее отражение, из бирюзовой толщи воды вставал столб белого пламени. Море казалось густым, оно едва колыхалось в своих маревых таинственных пределах, ленивые волны набегали на берег и откатывались с тихим шелестом, так похожим на трепет листвы.