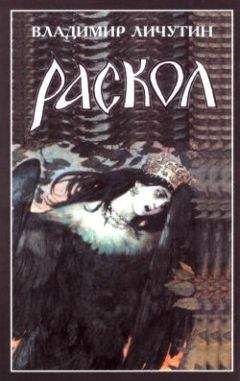Феоктист так и остался у порога, поддерживая руками цепь. Он вроде и не заметил брата, присевшего в дальнем углу на корточки. Городничий же сразу опустился на лавку, громоздкий, как чувал с мукою; поверх ватной телегеи натянута маловатая кольчужка, едва покрывающая внушительный живот. Культю Морж принакрыл здоровой ладонью и пророкотал, переводя победный взгляд от порога к окну:
– Ну что, братья, со свиданкой? С привальным вас... Велю меда принесть. Ты мне, стремянный, шибко занравился. Вот и палаты самолучшие отвел, и охрану к порогу, чтобы кто не пообидел дуриком, и трапезой не обделил. Вон харю-то наел... Раскалилась, только карасей и жарить...
Морж сыто рассмеялся своей шутке, еще шире развел плечи, еще круче выгнул грудь.
– Псец косорукий... Не руку бы тебе надобно ссечь, а голову, – сразу оборвал Любим городничего. – Зря государь пощадил. Не выгибался бы тут, как площадная бл... Кот му... , жалко, ты мне раньше на вилы не угодил!..
Морж и глаза выпучил, оторопел; языкастый, гонористый, шумливый, он и слова-то все забористые вдруг проглотил, побагровев лицом и помутнев глазами. При настоятеле так низко уронили, при Феоктисте стоптали под ноги. Архимарит искоса подглядел за городничим, мелко улыскнулся в усы. Нашла коса на камень; стремянный кому хошь рога обломает, накидает гостинцев. Ишь вот, и в тюремке не устрашился, держит норов, стоит на своем. Нахальный Морж и Никанору частенько досаждал, требовал без пути то особой трапезы, то нового жалованья из казны, то собольей шубы, то безмерного питья середка ночи, то богатых покоев; и во всем архимарит удоволял самоставленника, чтобы не впал тот в обиду и не сшел со стены, сложив оружие. Морж был незаменим в крепости. Разиновец, без Бога в душе, он в кровавом бунте на Волге понахватался военных премудростей и, имея железное сердце, не боялся ничего на свете и не чествовал никого, кроме сотника Ивашки Шадры; Морж дорожил им и потому потакал во всем.
– Ворина, с огнем играешь! Ты кого в юзы заточил! Открывай ворота! Пади ниц, собака!
– Я тебе открою ворота шилом в задницу... Я тебя червям сгною, слышь? Ты у меня кровавыми слезами зарыдаешь, как огненную печать поставлю. С пустой-то мошной побегаешь, так и серку под меня подставишь, урод.
– Ну ты, гнидка на гребешке! Раз-дав-лю! – жутко вскричал Любим с воистину медвежьим рыком и, теряя всякий разум, проваливаясь в какую-то пустоту, изодранную просверками блистающих молоний, метнулся на городничего. Но архимарит в крайнюю минуту лишь вскинул навстречу ладонь, и стремянный, даже не коснувшись ее, вдруг больно ушибся грудью и пришел в чувство.
– Будет, сынок... Очнися, – расслышал Любим голос издалека. – Ершистый ты, стремянный. И меня даве выкастил срамно и на городничего вот попер. Колючий ты, парень, как ерш на уде. И ты, городничий, охолонь. Так ли досужую беседу ведут?
– А чего он... Гов... на му... , а не ерш. С ерша хоть уха, а с этого ни...
Морж выматерился. Вдруг на глаза ему палась миса с квасом и редькою, стоявшая под боком у архимарита. Городничий тупо прихватил чашку, взболтал питье и свистнул к порогу под ноги Феоктисту. Деревянная посудина лопнула. Чернец вздрогнул, но не соступился со своего места.
– Мы тебя смирим. Голод не тетка, и гольный камень покажется за сдобную перепечу. Ишь, на государевых-то подачах разъелся, боров...
Морж цедил слова хрипло, с натугою, но уже с дальним умыслом. Ведал бы Любим, какого врага он нажил себе в Соловецкой тюрьме. Да знал бы и Морж, какого несгибаемого молодца нацепил он на уду и вот пытается вытянуть на глинистый креж из воды; как бы и самому не вскользнуть и не сверзнуться в омут на поедь донным налимам.
– Не стоять бровям выше лба, – ухмыльнулся Любим, уже остывая; он снова поднялся во весь рост, угнув голову под матичное бревно, и спиною, как глухими ставнями, плотно укупорил окно. Сумрачно стало в келье, лишь рассеянный свет едва сочился в притвор двери с монастырского двора. На мощенной камнем соборной площади лежали матовые лужи с голубыми теплыми разводьями; значит, на воле разведрилось; там, в небесном водополье, ярилось сейчас благословенное солнышко; там омытые влагою приозерные калтусины, боры и тундряные морошечные палестины пахли хмельно и сладко. Любим в мыслях-то уже взмыл белым соколом с крепостного облома, оперев крылья на упругий полуденный ветер с горы. Повыше чуток взняться над морем, так и родину милую видать; вон она, Канская земля с болотными разливами и мутными ручьями; а ежли чуть правее кинуть взгляд – там-то и найдешь каменистые красные щельи по-над Мезенью-рекою, и Окладникову слободку, и родную старинную избу в два жила на угоре, и мать Улиту Егоровну в синем костыче из крашенины, в раздумье торчащую на взвозе, как будылина пересохлая в зимнем поле...
Любим окротел вдруг, как смиряется приливная полная вода в реке, готовая вот-вот дрогнуть и повернуть назад к морю; и все тогда в природе затихает, поджидая речного вздоха. Архимарит почувствовал перемену в настроении; что-то стронулось, отмякло в узнике:
– Перетопчется, сынок, переможется. Прости нас, коли сгруба чего... Мы же тебя спасти решили...
Городничий с удивлением воззрился на Никанора, но промолчал. Чудил старик. Ладно; была бы наживка, будет и наважка. И Никанору не век атаманить.
– Кругом тебя комарье и оводье. Жалят немилосердно, тебе свету красного ныне не видать. Так тебя обложили...
– Да ну? – притворно удивился Любим.
– Тебе веры ныне нигде нету, как ты хошь, – городничий смирил тон и пошел на поддержку архимариту. – С той стороны спрашивали тебя, дак мы ответили: де, ты к нам, православным, переметнулся, с братом родным стакался, а с еретиками до конца расскочился и дела тебе до них нет. Иль не правда?..
– А ты не зуди, балабон. Я тебя в упор не слышу, от лаптя оборка. Кулемки ставишь, да как бы самому не угодить поганою башкою.
– Не говорено так... Пока не говорено, Любим Созонтович. – Никанор уважил стремянного по отчеству, чтобы загасить в зачине новую вспышку гнева. – Нам, милок, с тобою не равняться. Ты царю под локоть примостился, о конь при стремени стоишь. Да того, видать, не знаешь, служивый, что на тебя кругом поклепы. Завистники ямы роют, подметники негодуют: де, простой смердишко к Терему прилепился...
– А что вам-то от меня надо?
– Да ничего... Сказать, дак пустяк малый. И в тягость тебе не станет. А славы в том больше, чем на бою; вся Русь православная тебя почтит.
И архимарит вдруг поднялся с лавки, отбил Любиму большой поклон.
– Добре знаю ваши прихилки. Обманом стоите. За так-то и окуневого пера не кинете поись... За какую корысть меня к себе притуляете? В ком стыда нет, в том и чести ни на полушку...
– Ломливый больно, – буркнул городничий. Архимарит дернул Моржа за рукав.
– Коли так, и ты поклонись. Не переломишься.
... И не поймешь сразу, дуруют ли оба, играют скоморошину иль действительно из больших почестей склоняют голову перед стремянным. Любим не мог понять их замысла, но досужий тайномысленный разговор невольно затягивал в себя, хотя служивый был начеку, окорачивал себя, не давал послабки. Сунь лишь ноготь, незаметно и всей руке пропасть... Эх, неволя-то не серебром-златом усыпана, но слезьми улита.
Городничий тоже поднялся, нехотя поклонился и торопливо уселся снова.
– Так чего надоть? Жметесь, как девки на выданье: и хочется, и колется...
Видно было, как архимарит колебался, бросал косой взгляд к порогу, где сутулился Феоктист; ждал от чернца поддержки, а у того будто язык примерз. Ведь даве в архимандричьей келье наконец столковавшись, решили дело полюбовно, и нынче бы цепи с Феоктиста сняли, не спрашивая больше обязательств...
Ну а куда далее отступать? И Никанор решился:
– То и надо от тебя, служивый, грамотки снесть к нужным людям да проведать на Московском дворе, как лето нам коротать, к какой нужде еще подвигаться, – вкрадчиво заговорил главный смутьян, тщательно подбирая слова, чтобы не сказать лишнего. – Есть там и бояре наши, и кой-кто из думских, так велеть надо им, чтобы без промешки и волокиты вершили дело в нашу сторону и царя на ум наставили; зря ведь дурует. Без нашей-то молитвы в ад прямым путем...
– Да сами-то что не снесетесь? Поди на каждой кочке ваши уши понасажены.
– Сами-то мы с усами, про то другой сказ. Да этот редкозубый дьявол Мещеринов, как змий хичный, налетел на нас, шибко зажал и всех гонцов перенимает... Хотя у хлеба не без крох... Кой-кто печется о нас... Как до царя с воеводской вестью потекешь, долго ли наше писемко в сапожонко вкинуть? Не велик и груз, килу не наживешь. Подумай, сынок...
– И думать не хочу. Вижу, к измене клоните. Раскинули мережку, поймали меня, да больно сеть дырявая.
– А мы в тройницу тебя...
– Железный невод вяжите, может, и уймете мертвым...
– Мы тебя на Божьем слове уловим. Как ни крепись, милый, а в нашей заставе быть. Попомни меня. На нашей стороне Бог и правда... А ты-то, Феоктист, чего там молчишь?