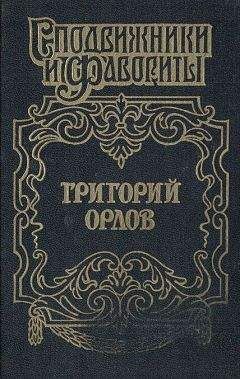— Отлично, — сказал Орлов, — ступай! Удвой свою бдительность, дабы от тебя ничего не скрылось; я доволен тобой; даю тебе слово, ты будешь награжден по заслугам.
Он сделал повелительный знак, и Ушаков удалился, отдав честь.
— Он хочет иметь письменный приказ, — проговорил Орлов, мрачно глядя ему вслед. — У кого в голове всплывают такие мысли, тот опасен, опасен также потому, что много видит и знает. Он выдал себя, заговорив об Аделине; у него было намерение сохранить это письмо как доказательство. Отчего человечество не придумало машин, которые осуществляли бы наши мысли и которые мы могли бы разбивать, когда в них нет надобности? Почему должны мы пользоваться услугами людей, у которых свои мысли и глаза? Но разве трудно разбить и такую машину, хотя она и состоит из плоти и крови? Человек, который знает слишком много, опаснее пороховой мины: мы хотим овладеть им, он же овладевает нами; этого не должно быть, нет, нет!.. Я позабочусь о том, — прибавил он с холодной усмешкой, — чтобы навязчивое любопытство этих человеческих машин не было опасно, чтобы эти пороховые мины не взрывались под ногами.
Настал вечер; Орлов оделся для бала у императрицы, и в то время как он в сопровождении слуг и свиты ехал к Зимнему дворцу в экипаже, запряженном новыми лошадьми, подаренными ему Фирулькиным и возбуждавшими зависть и восторг, Ушаков сел верхом на свою лошадь, и отправился в Шлиссельбург.
Оба человека, наблюдавшие за ним до последних домов предместья, повернули обратно, и каждый своей дорогой пошел в город.
Дорогой Ушаков вспоминал свой разговор с Орловым.
«В его взглядах таилось коварство, — думал он. — И кто поручится мне, что он не погубит меня, когда достигнет своей цели, которой я все еще ясно не понимаю. Действительно ли хочет он возвести на престол Иоанна Антоновича? Всем известно, что он потерял расположение императрицы, которая всю свою любовь перенесла на Потемкина. Он свергнул с престола Петра Федоровича; не думает ли он свергнуть теперь Екатерину, так как боится, что не будет больше пользоваться той неограниченной властью, которая одна питала его непомерное честолюбие? Если ему это удастся, то он припишет себе заслугу этого дела, а если не удастся, то погубит заговорщиков и явится спасителем трона. Кто может раскрыть пути этого коварного ума? Было бы ужасно, если бы я предал Мировича, который так слепо доверял мне, к которому я не перестаю чувствовать сострадание и который вместе с тем погубил себя в вырытой мною же яме. Но если намерения Орлова таковы, то для меня нет спасения. Я стою как бы на узкой перекладине, положенной через стремительный поток. С другого берега меня манят почести, слава, богатство. Но достигну ли я другого берега? Рука Орлова держит эту перекладину; в его воле вырвать из‑под моих ног хрупкую опору, и в то же время для меня нет возврата на другой берег; я должен двигаться вперед, слепо повинуясь ему. Сострадание же и милосердие никогда не были знакомы этому человеку; он отказал мне в письменном ручательстве, и у меня нет никакого оправдания. Даже письмо Аделины, которое могло бы явиться обвинением против него, он вырвал у меня».
Тяжело вздохнув, он снял фуражку и обтер холодный пот, которым покрылся его лоб.
— О, силы тьмы! — мрачно воскликнул он. — Вам я предался, и вы должны помочь мне! Неужели Орлов обманет меня, хотя я, чтобы заслужить награду, пожертвовал спокойствием своей души? Укажите мне путь, чтобы освободиться из этой мертвой хватки!
Он дал шпоры, так как чувствовал, что только быстрый бег коня поможет ему обрести спокойствие, и бешеным галопом помчался по дороге.
На одном из поворотов находился небольшой еловый лесок, закрывавший берег Невы. Ушаков задержал лошадь и стал медленно подвигаться вперед сквозь глубокую тьму. Вдруг из леса выскочило несколько человек; двое ухватились за удила лошади, а двое других очутились по бокам всадника.
Ушаков сделал движение выхватить саблю, но, прежде чем обнажил оружие, к его груди были приставлены дула пистолетов и грозный голос проговорил:
— Не двигайтесь, иначе вы погибли! Всякое сопротивление бесполезно, вы один против десятерых!
В самом деле, вблизи показалось еще несколько темных силуэтов, окруживших его. Пользуясь его первым смущением, нападающие отняли у него саблю, и Ушаков оказался безоружным.
— Что вам надо от меня? — крикнул он. — Я беден, и при мне нет никаких сокровищ; вы ошибаетесь, если думаете, что захватили богатую добычу. Возьмите то, что у меня есть, так.
— Мы не разбойники, — возразил один из людей, стоявший к нему ближе прочих. — И если бы даже вы везли с собой все сокровища мира, то находились бы в такой же безопасности, как если бы были в алтаре Казанского собора.
— Так что же вам тогда нужно? — воскликнул Ушаков. — Зачем вы преграждаете мне дорогу? Подумайте, что значит нападать на офицера! Вы за это жестоко поплатитесь.
— Мы не нападаем на вас, — возразил человек, — вы — наш пленник, Павел Захарович Ушаков!
— Пленник, — повторил Ушаков, — но кто же вы?
— Мы берем вас по приказу ее императорского величества государыни императрицы!
— По приказу императрицы? — спросил Ушаков. — Но зачем?
— Это не наше дело, — был ответ, — если вы последуете за нами и не окажете никакого сопротивления, то я ручаюсь за вашу безопасность; если же вы проявите малейшую попытку бежать, то будете убиты.
Ушаков задумчиво поник головой; он не мог найти ключ к загадке, но мучительный страх стеснил его сердце. Если Орлов считал нарыв, о котором он говорил, созревшим, если он велел схватить его как заговорщика, то для него не было никакого спасения. Он чувствовал над собою руку судьбы. Он сознавал также, что бегство было невозможно, а сопротивление бесполезно.
— Я готов следовать за вами, хотя не понимаю, почему государыня распорядилась схватить меня, — сказал он. — К тому же у вас никаких доказательств правдивости ваших слов.
— За доказательствами дело не встанет, — возразил человек. — Слезайте с коня! Мы не можем терять время!
Он подал знак.
Из‑за деревьев выехала закрытая карета, запряженная четверкою крепких лошадей.
Ушаков соскочил с лошади; перед ним открыли дверцу кареты, и один из людей сел вместе с ним, держа наготове пистолет. Остальные вскочили на лошадей, также находившихся в лесной чаще. Один из них схватил за повод лошадь Ушакова. Молча и быстро мрачный поезд тронулся в путь.
В пути Ушаков тщетно пытался завести разговор со своим спутником — тот все время оставался нем и глух как могила; тем не менее терпение пленника нельзя было испытывать слишком долго.
Спустя полчаса карета остановилась, и Ушаков мог разглядеть, что они находились у одного из боковых подъездов Зимнего дворца. Страже был сказан пароль, и Ушакова повели через двор, затем по каким‑то коридорам, пока не ввели в роскошно убранную приемную и не постучались в одну из внутренних дверей комнаты. Дверь тотчас отворилась.
По молчаливому знаку спутника Ушаков перешагнул порог и в следующий момент очутился в салоне лицом к лицу с генерал–адъютантом императрицы Потемкиным, стоявшим перед ним в блестящей форме и испытующе глядевшим на него.
Ушаков, овладевая своим страхом и напрягая все силы перед неизвестною опасностью, сказал:
— Я рад, что имею честь находиться в присутствии вашего высокопревосходительства, так как убедился, что попал не в руки разбойников, как я того опасался, и смею надеяться, что мне теперь будет объяснена причина моего ареста. Я лично не мог уяснить себе ее и полагаю, что все это вызвано каким‑либо недоразумением или ложным доносом.
Потемкин, по–видимому, не обращал внимания на его слова, но продолжал разглядывать его, стараясь составить верное суждение о его личности.
— Кажется, в последнее время вы исключительно были заняты представлением рапортов коменданта Шлиссельбургской крепости? — спросил он.
— Так точно, ваше высокопревосходительство, — ответил Ушаков, стараясь угадать смысл этого странного допроса.
— И каждый раз вы посещали при этом актрису Леметр? — продолжал допрашивать Потемкин.
— Мадемуазель Леметр, — возразил Ушаков, — невеста моего друга, подпоручика Мировича, и так как тот не получал отпуска, то я передавал ей его поклоны.
— Знаю, — сказал Потемкин, — я знаю также, что мадемуазель Леметр несчастна, так как должна выйти замуж за некоего Фирулькина; я знаю также, что ее сильно огорчает ухаживание другого могущественного лица.
— Ваше высокопревосходительство, последнее не может касаться меня, и если я даже слышал кое‑что об этом, то с моей стороны было бы нескромностью говорить о том.
— А если бы я потребовал от вас именно этой нескромности? — спросил Потемкин. — Но оставим это, так как я хочу знать кое‑что другое. Вы нередко посещали фельдцейхмейстера и подолгу оставались у него во дворце; нередко вы также бывали в артиллерийских казармах; это не имеет никакой связи с вашими посещениями мадемуазель Леметр.