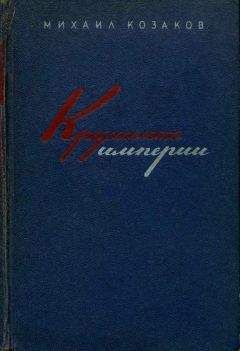— …и на игральные карты у нас кризис.
— …но об этом разговоре прошу вас пока не сообщать… сами понимаете…
— …французский генерал По у нас в Ессентуках лечится.
— …нам пример надо брать у Англии, как бороться с роскошью!
— …и эти евреи-эмигранты готовы защищать свою мачеху Россию…
— …Александр Дмитриевич Протопопов остался в Лондоне в помощь министру Барку…
— …а газеты — заметили? — семь вместо пяти копеек!
Минутная остановка в Териоках, — гул уменьшается, слова явственней, путешественники вспоминают здешние слоеные пирожки, каких нет и у Филиппова, смотрят на часы, отсчитывают время, оставшееся до Петрограда. Путешественники не прочь уже закончить интервью, но газетчики наседают, каждому хочется спросить всех и в свою очередь самим побольше рассказать, — на листки блокнотов падают размашистыми обрубками-кривулями торопливые записи, которые сегодня ночью уже превратятся в стройные грядки статей, заметок, телеграмм на первой полосе всей русской прессы.
— Вы сами должны понять, — несется из чьего-то купе. — После Бурбонского дворца с его историческими воспоминаниями, с его залами и кулуарами… Вам не приходилось бывать там? О, это замечательно!.. А зал Казимира Перье, где изображено заседание Генеральных штатов двадцать третьего июня тысяча семьсот восемьдесят девятого года?! И после всего этого мы попали…
Шум тронувшегося поезда заглушил остаток плавного разговора и выразительный голос рассказчика.
И снова:
— Нет, я не ездил. Павел Николаевич ездил.
— …английские солдаты родным на память свой голос в фонографе…
— …теперь у нас, господа, мясопустные дни введены.
— …да, я веду дневник… вот еще и здесь, в купе. Вот он…
— …ах, каналия же этот…
— …жаль Китченера!
— …нашим — ни-ни! Французам через посольство тридцать бутылок вина на душу…
— … «супрематисты» — футуристы выставляются…
— … а Ириша как, Фома Матвеевич?
— …извозчичья такса, говорите?
— …не выставка, а москательно-скобяная торговля: металл, дерево, обои, стекло, — тьфу!
— …гуси на Дворцовой набережной, ей-богу. Картинка!..
— …доподлинно знаю: Сибирский, Русский для внешней, Азовско-Донской…
— …Все здоровы, Лев Павлович!
— …Международный, Волжско-Камский банк, — вот вам и газета!..
— …Сухомлинов? Сидит пока сей резвый генерал!
— …на лекции Детра Когана: «одичание и возрождение в литературе и жизни».
— …к Белоострову, господа!
— …У них ванны и души в траншеях — у французов, а вы говорите!..
— …распутинцы под сюркуп взяли все общественные силы.
— …и Софья Даниловна хороша? Ну, слава богу!
— …а зала почем?
И так до самого Финляндского вокзала.
Все домашние здоровы — вот самое важное из того, что сообщил Асикритов, — и Лев Павлович пришел в хорошее настроение. Случилось так, что последние две недели он не имел никаких сведений от семьи. Ни одной телеграммы, а на письма он и не рассчитывал.
Весь обратный путь из Англии Лев Павлович был тосклив и полон всяческих мрачных мыслей и беспокойных предчувствий. Он плохо спал, и сны были несуразны и неожиданны по Своему горькому всегда содержанию: то жена облысела и кондукторшей служит в трамвайном вагоне, то она в гробу лежит и головой мотает, и у гроба стоят знакомые и друзья с голыми коленками, в форме шотландских стрелков; то сын Юрка — раненный финским ножом уличного хулигана; Ириша, бесстыдно обнимающаяся с каким-то пьяным солдатом и жалобно протягивающая руки к отцу; то она лежит на рельсах, и мчащийся поезд вот-вот налетит и раздавит ее, — Лев Павлович стонал во сне, вскрикивал, метался на своем дорожном ложе и, просыпаясь, жаловался спутникам на сердцебиение и дурное настроение.
Встреча с Асикритовым, родичем жены, обрадовала Льва Павловича. Журналист был в курсе домашних карабаевских дел: дней десять назад Льву Павловичу телеграфировали, но, очевидно, телеграмма не допела, — зря так волновался; Юрка благополучно перешел в седьмой класс и пытается говорить басом; на дачу решили ехать, дождавшись только Льва Павловича; любимое блюдо, вареники с вишнями в сметане, ждет его на столе: это трогательный сюрприз Сони, не изменяющей и в столице украинским вкусам; она сохранила ему все газетные вырезки, в которых упоминалось его имя за все это время; да… недавно обклеили всю квартиру новыми обоями; словом, все ждут его с нетерпением, — они, наверно, сейчас уже на вокзале — нервничают, как полагается…
Из вагона Лев Павлович вышел уставший, но успокоенный и даже веселый. Поезд пришел вечером. Ярко освещенный перрон был полон людьми: не только родственники и знакомые, но и многие другие пришли встречать депутатов русского парламента. Кричали «ура», возглашали здравицу прибывшим, а некоторым, и в том числе Карабаеву, отдельно пели какие-то песни и снова кричали «ура».
П-пых! — вспышка магния перед самым лицом невольно вздрогнувшего Льва Павловича; но спустя секунду он уже приветливо смеется, и таким, со сдвинутой, в сутолоке, шляпой на голове, запечатлевает его второй фотографа… бросается к нему с поцелуями:
— Папа… папочка, здравствуй!
— Юрик… родной!
Он крепко прижимает к себе сына, заглядывает в его глаза, нежно похлопывает по плечу.
— А мама где? Ирина?..
— Там, там они… Их затолкали. С нами Федя Калмыков!
— Куда прикажете, барин? — спрашивает носильщик.
— Ах, к выходу же, конечно!
Они пробивались сквозь толпу, и многие, знавшие в лицо депутата Карабаева, приветствовали его, снимая шляпы, котелки, фуражки, а женщины — многократными кивками головы и длительными улыбками, и Лев Павлович тоже улыбался всем и в сладкой растерянности повторял одно и то же слово:
— Рад… рад… рад…
— Какой ты знаменитый, папа! — шептал ему Юрик. — Как Собинов.
— Дурачинка ты, мальчик.
Из вагона он вышел успокоенный и веселый, — сейчас он шел радостными растроганный.
— Да здравствует Россия и ее верные союзники, господа!
— Ур-р-р-а-а!
— Да здравствует Государственная дума, — ур-ра!
Свистки, голос распоряжающегося жандарма:
— Ну, ну… Проходите, проходите, господа. Не задерживаться!
— А вот и мама… Мама, мама — сюда! — кричит Юрка и дергает за рукав отца.
— Левушка! — слышит Карабаев знакомый, вздрагивающий голос жены и делает торопливые шаги навстречу.
У выхода из вокзала и у места, где стояли извозчики, пришлось немного задержаться, а так хотелось скорей попасть домой!.. Ах, боже мой, ну что там приключилось с носильщиком? Где же они?
— А ты запомнил его номер? Все три места у него? — спрашивает взволнованно и смотрит по сторонам Софья Даниловна. — Четвертое у тебя в руках?
— Да, да… Он, наверное, нас ищет, какая у тебя славная шляпка, курсёсточка моя!
— Какой у него номер, Левушка?
— Сто первый, кажется.
— Ах, мамочка, не беспокойся: Федя и Юрка его найдут.
— Твой Калмыков давно здесь? — подмигнул дочери Лев Павлович.
— Мой? — смеется. — Несколько дней… Из Киева.
— Почтительный юноша, — говорит Лев Павлович.
— Не очень… — как-то многозначительно, косо поглядывает Софья Даниловна.
— Вот! Я говорила, папа… идут!
«Сто первый» с двумя карабаевскими чемоданами на ремне через плечо и с желтым саквояжиком в руках пробивал себе путь в толпе. Рядом с ним шли Юрка и студент Федя Калмыков.
— Затерло! — оправдывался носильщик, отирая пот.
Лицо у него побагровевшее, водянистые маленькие глазки избегают встречного взгляда, и черные рогали колечками закрученных усов готовы, казалось, поникнуть, распуститься книзу от охватившего его смущения.
— Ремень менял, так как первый лопнувши…
— Ладно, ладно, — утешал его Лев Павлович.
Прошли к стоянке «Ванек», а молодежь — к трамвайной остановке.
Носильщик ругался с извозчиком:
— Вставай! Зачем ноги на сиденье положил? Тоже… барин.
— А штоп она не села, потому она осень толстая! — показал финн кнутовищем на обоих Карабаевых. — А моя лосатка любит тонкие седоки, штоп не тесело ехать, потому война: овес торог, а у лосатки сило мало.
Пришлось взять другого извозчика: и опять разговор об овсе, о скудной жизни, о тяготах войны.
— Ты знаешь, Соня, как говорят о нас немцы? — рассказывал, покуда ехали, Лев Павлович. — В «Berliner Tageblatt» я читал: «Вы знаете страну, где все есть и в то же время ничего нет?» Это так обидно, Соня!..
На следующий день утром, еще не сбросив голубой своей пижамы, еще не умывшись, он распаковывал вместе с Юркой чемоданы в прихожей.
Насвистывая «типперери», он открыл ключиком дорожный саквояж, заглянул в него, сунул в него руку и тотчас же оборвал свой свист.