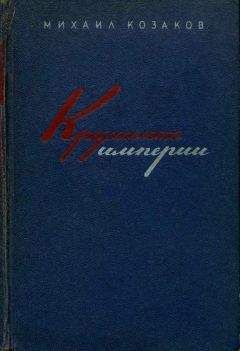— Сейчас звонили от них… Сию минуту только… Просили вернуться. Обе. Анна Александровна… Надежда Ивановна тоже. Говорят, что они сейчас заедут…
— Какая честь для нас, для всей Руси! — весело усмехнулась Федина спутница.
И уже обращаясь к нему:
— Вот видите, не пришлось нам потолковать! Жаль, жаль. Вы уж меня простите. Впрочем, позвоните мне: мы условимся. Письмо к министру я С большой охотой достану вам, — ваше дело будет устроено. Позвоните же мне! Я хочу вас видеть у себя.
Она протянула Феде руку, и ему показалось, что пожатие ее было крепче и продолжительней, чем в первый раз, а взглянув в глаза Людмилы Петровны, он увидел в них ласковую улыбку.
— И я хочу вас видеть! — сказал Федя так горячо, что это походило уже на невольное, признание. Но об этом он подумал только тогда, когда остался один на набережной.
День заканчивал в обществе карабаевской семьи и ее приятелей, а вечер принес приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное за эти дни в Петрограде.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Думы и нервы либерала
— …Все покоится на лжи. Чтобы увидеть это, не надо быть очень наблюдательным, Левушка… Лжет начальник отряда, когда доносит, что «с боем» взял такой-то населенный пункт. Местечко-то было очищено неприятелем еще два дня назад, а наши стреляли только для виду, чтобы написать об этом по начальству и не получить подвоха от стоящей позади артиллерии. Вот оно что!.. Лжет генерал, когда сообщает о подвиге рядового Петрова, «свидетелем» которого он был, храбро, беззаветно бросившегося в немецкие окопы и там заколовшего с десяток немцев. Врет его превосходительство, нагло врет! Он не был очевидцем, не был на месте, но вот «тонкое» указание на то, что он сам был на передовых позициях, уже гарантирует ему боевую награду… Лжет захвативший «тысячу пленных», а сдавший в тыл всего лишь триста. Почему, спросишь? Да потому, что остальные не были и взяты, а показываются в сводке как убитые во время сражения… при неизбежной суматохе! Лжет тот, кто трижды в течение суток сообщает о «постепенном» взятии такой-то позиции, желая этим обратить внимание на «трудность» своего положения и на свою решимость и твердость, а ведь позиция-то была взята сразу: просто… противник слабо защищался!.. Лжет тот строевой начальник, который представляет к награде штабного «моментика» за «отличие» при передаче приказания или при выработке плана атаки. А почему? Надо ведь порадеть штабному, чтобы на всякий случай заручиться его помощью по определению своей собственной награды… Не врет только рядовой Петров: на военно-спекулятивном базаре он не торговец, а товар. Не углядим, и побежит с фронта рядовой Петров, уставший от окопного сидения, от грязи, от штабной неразберихи…
Глотнув из стакана чай, гость в погонах штабс-капитана неожиданно пропел:
А штабы, как мухами,
Сплошь набиты слухами.
— Это, господа, офицерская фронтовая частушка, и она — не в бровь, а в глаз!
— Но Ставка все-таки, Алексеев, например… — все тем же тоном глубоко задумавшегося человека сказал Лев Павлович.
— Я тебе еще раз повторяю, Левушка. Ставка? Я пробыл в ней восемь месяцев. Прошла только неделя, как я перестал быть обер-офицером управления генерал-квартирмейстера, и, поверь мне, я многое видел, многое узнал. Да мне ли тебя учить?! Сам небось в военно-морской комиссии сидишь, — неужели там у вас ничего не известно? Сидишь ведь там, руководишь от имени Думы. Армия, Ставка верховного — это фотография всей нашей страны.
— Фотография, говоришь?.. — исподлобья посмотрел Лев Павлович, но не на собеседника, а мимо него, и на секунду взгляд карабаевский остановился на молчаливо слушавшем, как и все остальные, Феде Калмыкове и словно сказал ему строго и назидательно: «Раз слушаешь тут — сиди и слушай, так и быть, но прошу не болтать потом и ни во что мой дом и семью не замешивать».
Федя выдержал этот взгляд, как проверку, и Лев Павлович, воспользовавшись короткой паузой (гость, утоляя «жажду» глубокими глотками допивал чай, выжимая ложечкой сок из лимона), сказал свое:
— Да, да, Петруша, худо, брат, в таком случае. Худо! Вот посмотри… (Он взял из ящика письменного стола какие-то листки и прочитал их.) Я сделал себе выписки. Например, из приказа по Первой армии. Ты только послушай! «В армию прибыли новые быстроходные аэропланы, по фигуре весьма похожие на немецкие, без всяких отличительных признаков. Принимая во внимание… (ты только послушай, Петруша!), что при таких условиях отличить наш аэроплан от немецкого невозможно, строжайше воспрещаю, под страхом немедленного расстрела, какую бы то ни было стрельбу по аэропланам». Это вместо того чтобы сделать простую вещь: дать нашим аэропланам свои собственные опознавательные знаки! Ведь тупицы, — а?! Дальше. Вот тебе из приказа по Восьмой армии. «Попрежнему войсковые части, и в особенности — парки и обозы, продолжают становиться, строго придерживаясь уставных форм, — квадратиками, без всякого применения к местности. Требую со смыслом располагаться на бивуаке, укрывая повозки, деревья, заборы или строения, а в случае невозможности маскируя отдельные повозки ветвями, охапками сена и тому подобное. Коновязи разбивать по опушкам или внутри рощи, людей располагать по дворам или палаткам. При совершении маршей пехота должна, завидя аэроплан, немедленно сворачивать на обочины, останавливаться и даже ложиться. Надо придерживаться воинского устава, не как слепой — стены». Господи, приходится учить наше командование азбуке, военной азбуке! Воображаешь, сколько было жертв?.. А наш тыл? У нас тут в тылу ни знания, ни плана, ни системы. Куда уж дальше! За время войны переменилось четыре министра земледелия и шесть — внутренних дел. Чехарда, помилуй бог… Каждый не знает, что ему делать и что делал его предшественник. Приезжаем из-за границы — узнаем: объявляют они рекрутский набор, — да на какие сроки?! В самый разгар полевых работ! Подумать только! А убирать хлеб кто будет? А кто работать будет? Отвечают нам в комиссий: «Инородцы». И уже летит во все места телеграмма Штюрмера, и в Туркестане и в киргизских областях, заметь себе, серьезнейшие беспорядки. Вот тебе и результат! В особом совещании по обороне с трудом ведь, представь себе, добились отмены указа. Стыдно — перед союзниками стыдно!.. На каждом шагу твердим о Войне до победного конца, торжественно клянемся в верности союзникам. А кругом — бестолочь, командование — бездарное, двором вертит, как хочет, пьяный, распутный конокрад и жулик. Он подбирает министров. Власть вручена ничтожным, неспособным, даже подозрительным людям, вроде этого проходимца Штюрмера.
А ведь страна воспрянула бы, если к управлению призвать людей, облеченных общественным доверием. Сермяжная Русь — я верю в это! — поднялась бы на ратный подвиг, на победу… Но клика Штюрмеров и Распутиных тянет Россию в пропасть, к катастрофе… — взволнованно закончил Лев Павлович.
…Сидели все в кабинете Льва Павловича. Кроме карабаевской семьи, Феди и штабс-капитана Лютика, здесь был еще жена Лютика — низенькая седеющая женщина с розовым, свежим, словно только что умытым лицом и все время искрящимися черными глазами; шустренький с короткими, быстрыми движениями, непомерно длиннорукий Фома Асикритов; какая-то сухощавая, клювоносая дама в золотых очках (как выяснил потом Федя, — партийная сподвижница Льва Павловича и в некотором роде его секретарь); и тот самый Иришин знакомый, которого представили Феде несколько дней назад, назвав «Сергеем Леонидовичем», а фамилии не сообщив.
Послеобеденный чай следовало откушать, как всегда это делалось, в столовой, где все под рукой: и горка с чашками, и самоварный столик, и вазочки с двумя сортами варенья, и кекс домашнего приготовления в буфете, и шарообразный старинный фарфоровый чайник, накрытый малявинской куклой-бабой, забравшей его под свою пеструю теплую юбку, — словом, все на своем месте. Но вот чаепитие на этот раз пришлось перенести в комнату Льва Павловича.
И сделано это по его настоянию: он так давно не видался с другом, с Петром Михайловичем, Петрушей Лютиком, тот так много любопытного и весьма интересующего Льва Павловича начал рассказывать, уйдя с ним в кабинет, а там — так уютно и спокойно: открытые окна выходят на тихую Монетную улицу, а окна столовой — в шумный мальчишеским гамом и дворничьими окликами наполненный двор; да и «тембр беседы», как сказал Лев Павлович жене, может быть утерян, если уйдут они с Петрушей на другое место, и вообще в маленькой столовой все поневоле должны будут сидеть близко друг к другу, и каждый не сможет вести тот разговор, какого хочет, не стеснив себя и других, — что уж лучше перейти всем, кто желает, в его, карабаевский, просторный кабинет, тем более что никаких секретных разговоров они с Петрушей там и не ведут.