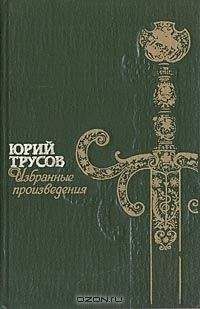Чухрай опять повел торговый обоз. Год выдался неурожайным, и приношения Одарки стали теперь редкими и скудными. Она сама порой голодала, но ее краюха хлеба не раз спасала жизнь арестантам.
Несмотря на эту помощь, они окончательно обессилели и потеряли веру в то, что когда-нибудь их «выкупят» из каторжной неволи. Эту веру в них убило известие о том, что уж год, как Лука Спиридонович собственный корабль завел, а их к себе не забрал. Видно, купцу совсем не нужны ни они, ни их матросские руки. Последняя надежда на свободу исчезла, и Устим перестал сдерживать себя. Он все чаще и чаще вступал в перебранки с ефрейторами, становясь все неистовей после каждого наказания.
Весной 1796 года он грубыми словами обозвал унтера и был отведен на гауптвахту, откуда его, залитого кровью, без сознания, приволокли два гарнизонных солдата и бросили в казарме на пол. Яков уложил Устима на нары. Он невольно подивился, до чего легок стал этот некогда грузный и сильный человек.
В бреду он выкрикивал мятежные слова, пытаясь подняться со своего ложа. Умер Устим к утру.
После смерти друга отчаяние охватило Якова. Запретные колодники, как тогда называли арестантов, жили в казармах, расположенных недалеко от развалин старой турецкой крепости. В свободные минуты Яков часто смотрел на ее руины. Рассматривая развалины черных стен, он, то вспоминал день, когда сбил со шпиля крепостной башни турецкий полумесяц, то обдумывал план побега. Иногда ему хотелось рассказать самому градостроителю господину вице-адмиралу о муках своих. Может, ему неведомо о страданиях народных? Мысль эта так захватила Якова, что он однажды чуть было не бросился на колени перед вице- адмиралом, когда тот шествовал со своей свитой мимо казармы.
Де Рибас торопился осмотреть строительство огромного здания — адмиралтейского управления. Остановили Якова долетевшие до его слуха слова самого вице-адмирала, сказанные молоденькому офицеру:
— Жалость к солдату вредна, мой друг...
Яков оцепенел. Видно, и впрямь он рехнулся с горя, что захотел у панов справедливости искать!..
Неожиданно пришла помощь со стороны тех, в кого он давно уже потерял веру. На этой же неделе к нему пришел вернувшийся из своего чумацкого похода Чухрай. Оh был взволнован вестью о том, что Устим умер. Яков никогда еще не видел такого гневного блеска в глазах старого запорожца. Семен торопливо сунул Якову узелок с едой и, буркнув: «Я покажу ему, толстопятому!», ушел.
Позднее Яков узнал, что Семен имел короткую, но горячую беседу с Лукой и говорил с ним предерзко — не как со своим хозяином-благодетелем, а как с человеком, который не выполнил своего обещания.
Решительный тон Семена подействовал на Луку. В его планы совсем не входило ссориться с Чухраем. Старик был ему еще нужен, и, добродушно улыбнувшись, хитрый купец сказал:
— Хорошо, что напомнил. А то, было, позабыл... Что ж вызволим... Только втолкуй своему Якову, что он мне теперь жизнью обязан, — И Лука приказал казачку привести к себе господина прапорщика Мускули - шкипера и владельца шхуны, которую он зафрактовал у грека для торговых рейсов.
С Мускули, греком, принявшим русское подданство, Лука давно уже вел какие-то коммерческие дела.
На другой день Чухрай опять навестил Якова. Он сообщил ему план побега и передал тоненькую, полую внутри, камышовую трубку.
К вечеру, по окончании работ, когда ефрейторы начали строить «запретных колодников» в ряды, чтобы вести их на ночлег в казармы, Яков незаметно соскользнул под настил пристани. Обхватив одну из свай, зажав камышовую трубку в губах, он тихо опустился в спокойную, нагретую за день солнцем воду. Через несколько часов, когда замолк шум поисков, а над морем уже опустилась теплая южная ночь, он услышал мерный скрип уключин. Скоро к молу подошел маленький ялик, и кто-то трижды ударил ладонью о воду. Это был условный сигнал
Бесшумно разрезая волны, Рудой подплыл к ялику. Чухрай и незнакомый ему коренастый человек, молча втащили его в лодку и поплыли к стоящей на рейде шхуне.
Не прошло и часа, как сытно накормленный, одетый в полотняные матросские порты и куртку, Рудой лежал на мягких, пахнущих смолой тюках в трюме шхуны.
Утром его разбудил арапчонок в красной турецкой феске и позвал к шкиперу.
В шкиперской каюте коренастый смуглолицый мужчина, тот самый, что сидел вчера за рулем ялика, показал ему грамоту, написанную на синей гербовой бумаге.
— Это паспорт твой, — плохо выговаривая русские слова, сказал он. — Получишь его через пять лет, когда отработаешь деньги, которые уплатил за него твой хозяин. Отныне ты — уволенный в отставку солдат греческого дивизиона с острова Родоса. Разумеешь? Это ничего, что ты рыжий. Рыжие греки тоже бывают, — раскатисто захохотал шкипер. — Имя твое теперь Георгий. Фамилия — Родонаки. Это ты хорошо должен вбить на всю жизнь в свою рыжую башку. Разумеешь? Повтори: Георгий Родонаки.
Яков повторил.
— Ну вот, ты, кажется, не дурак... Мне говорили, что ты уже ходил по морю. К парусу и рулю привычен? Хорошо! Кормить тебя будут три раза в день — досыта. Твое же дело - поменьше болтать, побольше работать. Тогда тебе кое-что перепадет на вино. Разумеешь ?
Яков молча кивнул головой.
— Ну, коли так - марш на палубу брашпиль вертеть! Сейчас якорь выбирать будем.
Новокрещенный Георгий Родонаки вышел из каюты шкипера на палубу.
Вместе с другими матросами он молча налег грудью на деревянный рычаг брашпиля. Когда выбрали якорь, подняли паруса и шхуна начала медленно выходить из залива в море, Яков облегченно вздохнул.
Город, где ему пришлось изведать столько горя, наконец, остался за кормой судна.
XXX. «СЕРДЦЕ МОЕ ОКРОВАВЛЕНО...»
Фельдмаршалом возвратился Суворов на юг Украины в 1796 году. Новые победы, одержанные им в польскую кампанию, еще более упрочили его славу. Но ни самый высокий чин русской армии, ни почести, которые с запозданием, скрепя сердце, все же воздала ему императрица, не вскружили ему голову, не сделали его ни важным, ни тщеславным.
Он по-прежнему был таким же скромным, простым Суворовым, ненавистником барской праздности и лени, неспособным почивать на лаврах. И снова его потянуло туда, где он больше всего был нужен, — на берега черноморские, заканчивать начатое им здесь строительство новых городов, гаваней, укреплений...
В Одессе Суворов появился неожиданно. Стремительный как всегда, на своем любимом казачьем коне сразу обскакал он весь город, побывал в крепости, в порту. Ему хотелось как можно скорее своими глазами увидеть все, что возникло здесь за два года его отсутствия. А изменилось за это время многое. Неузнаваемым стал Хаджибейский форштадт. На месте кривых переулков, ордынских землянок и понор, крытых лошадиными и верблюжьими шкурами, пролегли теперь прямые улицы из красивых двухэтажных казенных, а больше так называемых партикулярных (гражданских) зданий итальянского типа - с нишами, колоннами, балконами. Дома были построены из местного камня — золотистого ракушечника. Принадлежали они дворянам или купцам.
Бедные землянки и убогие лачужки переместились на окраины города, в его слободки - Пересыпь, Молдаванку, а также в ближайшие деревни и хутора.
Щурясь от яркого весеннего солнца, Суворов с интересом разглядывал большое красивое здание, принадлежащее генералу князю Волконскому. Оно было похоже на замок, обнесенный каменными строениями. (это здание впоследствии было куплено у Волконского бароном Ренно и превращено в гостиницу. Здесь в 1823 году жил Пушкин)
Внимание Александра Васильевича привлекла также обширная Базарная площадь, окруженная деревянными лавками. К площади вели строящиеся в две линии каменные и деревянные магазины - будущий гостиный ряд.
Не ускользнули от его взора и склады для хлеба, три ветряные мельницы, глиняные сараи, где размещались фабрики, делающие пудру и сальные свечи.
Новый город был не похож на другие черноморские города - Николаев и Севастополь. Здесь было больше шумного оживления, яркой пестроты костюмов, иноземного говора, меркантильной суеты. Она, эта пестрота и суета была везде - и на улицах, и в гавани, и в греческих кофейнях на берегу моря, где, прихлебывая крепкий кофе, негоцианты совершали свои коммерческие сделки. Этот торговый дух особенно чувствовался в гавани, - там на рейде стояло много русских и иностранных купеческих кораблей. Некоторые суда, пришвартовавшись к пристани, выгружали товары. Оживленная, шумная толпа торговцев и моряков встретила Суворова у глиняных зданий карантина и таможни.
Новая гавань вызвала большой интерес у Суворова. Малая жесте - так называемый Платоновский мол, пристанище для судов гребной флотилии, получивший свое название в честь фаворита царицы Платона Зубова; новые длинные, во всю Карантинную гавань, казармы для матросов, а выше, на склоне берега, красивый дом де Рибаса понравились Александру Васильевичу.