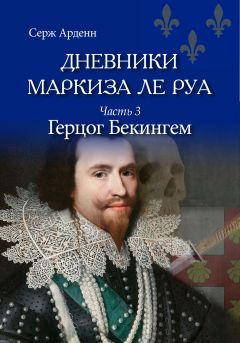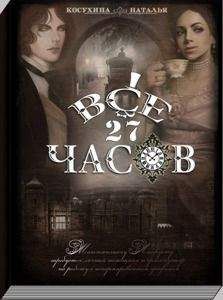– Эй, старина Блошар, боишься как бы не потерять своё чучело?!
Услышал старик знакомый голос, вызвавший смех трех стражников, уставившихся на вспотевшего Блошара, опираясь на древки протазанов. Отхлебнув, для храбрости, ещё вина, прежде чем ответить насмешнику, хорошо ему знакомому солдату по имени Бормер, угольщик потянув повод, остановил исполинских першеронов.
– А ты думаешь, дружище Бормер, меня не загрызет матушка сего молодца, если я потеряю её ненаглядного Даниэля в проклятых парижских дебрях?!
Искренне удивившийся Бормер, переглянулся со своими товарищами, не прекращающими хохотать.
– А какого дьявола, от тебя нужно его матушке, и на кой черт ты таскаешь за собой это опудало?!
Поднявшись на ноги, но, не спускаясь с передка телеги, старик бросил бутыль, оплетенный лозой, так, чтобы он сделался легкой добычей солдат, и, разведя в стороны руки, прокричал:
– Да потому, что мать этого несчастного, моя сестра!
Блошар завопил так, что все скопившиеся у ворот, как солдаты, так и путешественники, обратили на него свои взгляды. Хитрый старик намеренно затеял этот шум, понимая, что тихо шушукаясь, он лишь привлечет к себе внимание, подобный же спектакль, полагал он, не просто ему на руку, это единственный шанс проскочить кордон.
В этот момент, услышав вопли угольщика, к группе стражников присоединился капрал Варентюа, подхватив бутыль, пущенный солдатами по кругу. Отхлебнув нектара монмартрской лозы, долговязый капрал, с бледным как у мертвеца лицом, подобрел, обратившись к угольщику:
– А на кой черт, этот олух, обернутый какой-то дрянью, словно кокон, и впрямь даже страшно глянуть, притащился за тобой в Париж?!
С охотой приготовившись к объяснению, старик уселся на сиденье, что возвышалось на передке его повозки, и достал вторую сулейку, словно две капли воды, похожую на ту, что заканчивали стражники. На лицах солдат засияли улыбки, в предчувствии приятных минут, что сулят россказни папаши Блошара, тем более, сопровождаемые терпковатым привкусом его прекрасного вина. Ещё несколько стражников, присоединились к компании, лакавшей, по очереди, из оплетенного лозой бутылька.
– Так вот…
Начал Блошар, с интонацией подлинного мастера устных повествований, за что ценили его друзья стражники, охранявшие городские ворота.
– …кто не знает моего сына, малыша Жака?
Солдаты, скопившиеся у повозки, закивали головами, заворожено глядя на старика, словно убеленного сединами актера, читающего с повозки, заменяющую сцену бродячим лицедеям, одну из пьес Шекспира или Лопе де Вега.
– А кто не знает, или запамятовал, напомню: ещё год назад, на моего мальца Жака, было страшно глянуть. Моя старуха пролила реки слез! Да, что ты.. .кому его только не показывали, куда только не возили, и чего только не перепробовали. Ту гадость, что он пил и втирал себе в кожу, я не произнесу в приличной компании. Н-е-т! Даже не проси, не произнесу!
Завопил папаша Блошар так, будто все только и молили раскрыть названия снадобья, что принимал малыш Жак.
– И вот, год назад…
Он прищурил глаз, будто что-то припоминая, или высчитывая в голове.
– Нет, вру, год и четыре месяца, я встретил аптекаря, иноземца… по правде сказать еретика – гугенота, дьявол бы разорвал это чертово племя. Но только не этого! Этот святой человек, хоть и читает прощелыгу Кальвина! Так вот, говорит мне, сей чудо-лекарь: «Вылечу», говорит, «я, папаша Блошар, твоего сынишку»
Угольщик вскочил на ноги, будто к заду его поднесли зажженный фитиль.
– «Врёшь!», отвечаю я, «Нет…», говорит, «…не вру». Упал я тогда на колени, взмолился, «чего хочешь» говорю, «я для тебя сделаю, если вылечишь мальца». И вот, нагрузил он два кованных деревянных ящика всякой дрянью – бутылочки, баночки, скляночки, да разного цвета, да крупинки, да порошок, да мази…
Заняв прежнее место, угольщик нагнулся к стражникам, словно зачарованным слушавшим жуткую историю, вскинув вверх указательный палец.
– …только будешь пить, да мазать, как я распишу. Слава Господу читать то я умею.
Он трижды осенил себя крестным знамением.
– А то бы не знаю, как он стал бы его лечить, хлопотно это, долго. Правда, не взял ничего, вот тебе крест…
Вновь перекрестившись, и для убедительности округлив глаза, вымолвил Блошар.
– …ни денье, не взял. К чему это я?
Старик наморщил лоб, сдвинув брови.
– А! Дак вот, прослышала об этом чудесном избавлении моя сестра, что замужем за плотника, который живет в деревушке, под Верноном. И подослала ко мне своего сынка, моего племянника Даниэля. Совсем плох малец.
Он не глядя на племянника, маячившего, на протяжении всего разговора, за задним бортом повозки, ткнул в его сторону пальцем.
– …Даниэль, вправду сказать, будет чуть постарше моего, но тоже страдает недугом святого Мэна!
Его раскрывшиеся до невероятных размеров глаза, обшарили одного за другим, всех до единого солдат, столпившихся у повозки, будто спрашивая их – «как вам!»
– Наследственность, что ли какая?
Уже совсем спокойно произнес он.
– Ну, так вот, прислала она ко мне своего Даниэля, чтобы я отвел его к этому врачевателю. Морока, ей Богу! Вот и вожу парня целый день по Парижу! А аптекарь то тю-тю, улетучился. Может, переехал куда, а может и вовсе из города съехал, кто его знает? Так, что придется отправить парня домой ни с чем.
Он грустно закивал головой. В этот миг, разрумянившийся Варентюа, хлопнул ладонью, старика, по колену.
– Ладно, будет папаша Блошар о грустном, лучше поведай, как там наша гордость, наши писаки?!
Все кто знал о дружбе старика со знаменитостями первой величины, о которых мы имели удовольствие, сообщить многоуважаемому читателю выше, понимал, к чему клонит капрал. Папаша Блошар, уловив настроения подвыпивших стражников, рассудительно поднял густые брови.
– А, что писаки? Люди как люди, не хуже нас с вами, вот только убогие маленько, уж, что есть, то есть, вот посудите сами – все поэты королевства воспевают Бога и короля, но я их предупреждаю: кто занят Богом, зря теряют время, а от короля не дождешься благодарности.
Солдаты, будто по команде, разразились громким хохотом.
– Вот взять хотя бы, для примеру, господина Рене Декарта – сумасшедший ученый который открыл какую-то там чертовщину, нищий как «церковная мышь», но папаша Блошар, знает людей, и от этого помогает таким как этот бедный Декарт -талантам и безумцам, что мне кажется, не дается Всевышним порознь. Пусть, думаю я, не досчитаюсь нескольких су, а умного человека в беде не брошу. Господь он добрые дела видит, мне помогли, так что ж, я нехристь какой?
– А вот поговаривают, будто за твою преданность и временами бескорыстную заботу, эти ваятели, будто дают на прочтение свои шедевры?
Не без желчи, произнес капрал, хитро, с прищуром, уставившись на старика.
– Истинная правда. Вот совсем недавно, господин Вуатюр вознаградил мои старания, снизойдя до вручения мне листа бумаги, где его собственной рукой было начертано:
О дивные цветы, что манят красотой
И круг невинных нимф, питомицы
Авроры,
Созданья, что давно ласкают
Солнца взоры
И небеса с землей прельщают красотой
Покиньте же свои сады без сожаленья
Ведь даже Боги ждут благоволенья
Бессмертью предпочтя, огонь любовных бед.
И не кляните смерть, коль за нее вы пали…
– Что-то там, э-э-э, как же?! А вот:
…Жестокая едва ли,
Натешится сама, не погубив весь свет.
Гомон подвыпивших зевак стих, а взгляды как будто застыли, с недоумением впившись в статную фигуру угольщика. Капрал почувствовал себя «не в своей тарелке», после непостижимой, для понимания стражника, пролившейся из уст старика гениальности. Подкрутив ус, он решил исправить положение, прервав ненавистную тишину, являвшуюся, пожалуй, лишь стихией творцов и мыслителей, но зачастую невыносимую для глупцов.
– Да будет тебе папаша Блошар всякую чушь нести, выдавая стишки сумасшедшего писаки, к слову весьма сомнительного качества, за нечто особенное! Лучше прочти, что-нибудь из своего!
Как человек которому дано счастье понимать прекрасное, от того умеющему отличить пошлость от высокого искусства, Блошар обычно, когда заходили подобные споры, рьяно и откровенно, словно собственных детей, защищал тех кого боготворил. Но сегодня, он не стал пререкаться с простаком капралом, затянув «пошлости» собственного сочинения, коими не брезговал, лишь усугубив дарами Бахуса, в кругу подвыпившей черни, средь облезлых стен парижских трактиров.
– Ведь если в кружку ты добавишь меда,
С вином и перцем не забудешь размешать,
То даже самого ничтожного урода,
Подобным зельем сможешь воскрешать.
На этот раз восторженные вопли и хохот стражников, разнеслись даже за городские стены, что привлекло внимание в недавнем времени появившегося на площади у ворот офицера, который призвав на помощь бдительность, намеревался побороть послеобеденную дрему, взявшись за дело. Вальяжный, тучный лейтенант, заметивший лысоватого угольщика, сжимавшего в крепкой узловатой ладони старенький колпак, и будто актер со сцены, благодарно взирал, с высоты повозки, на группу солдат, столь бурно воспринявших его грубую рифмованную чушь. Офицер, обтерев кружевным платком губы и тонкие, словно нити полоски усов, воинственно поправив шпагу, решительно ринулся к скопившимся у телеги солдатам.