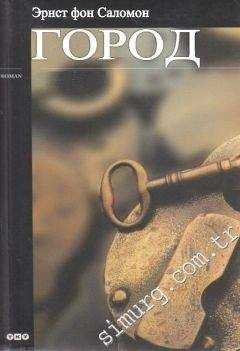- Но мне это надоело. Мне это надоело, - крикнула она в сторону стены. - Почему ты работаешь? - зашипела она на художника. - Дай мне сюда этот листок,
- и вырвала его у него из рук, из-за чего влажная краска попала ей на платье. Она схватила его за край быстрыми руками, руки судорожно на окраине, руки судорожно сжимались до боли, потом она отдернулась назад, бросила взгляд на пестрый лист, протянула руки вперед, и вернула лист художнику. - Порви это,
- сказала она, - порви! Художник, бледный и непонимающий, выронил кисть, поднял лист и медленно разорвал его посередине. Парайгат и Иве подскочили. Хелена стояла в ателье как узкий язык пламени. - Мне нравится больше, - сказала она тихо, и жалобный, свистящий звук из ее тонкого горла наполнил мучением все помещение. Иве застыл. Как нож в грудь ему вонзился вопрос: Что я знаю о Хелене? Ее лицо скривилось как лицо ребенка, который собирался заплакать. Но она не плакала; она продолжала стоять прямо с выражением непонятной боли. - Вы разговариваете, и вы рисуете, - сказала она, - и вы приходите в ателье как на остров, о котором вы знаете, что он укромный и удобный, чтобы на нем разговаривать и рисовать. Вы разговариваете, и вы рисуете на острове, и все, что вы делаете, - ложь. Это ложь, - прикрикнула она на Иве угрожающе. - Что вы, все же, знаете о том, о чем вы тут говорите? Это должно быть так, а то должно быть так, говорите вы, и это не может так, а то не может так. Но то, что есть, того вы не видите. Я хочу вам сказать, что это - дерьмо! - крикнула она и протопала по ателье. - Ваше испытание в мире! Но вы еще не сделали и шага, чтобы убрать те испражнения, которые вплоть до небес наполняют мир своим смрадом. Да, если бы это был хотя бы еще ад, в котором мы вынуждены жить! Но нет больше чертей в человеческом обличье, есть только лишь мелкие преступники. Что все же, если полицейский сбивает меня с ног дубинкой, то это, по крайней мере, жестокая сила, и я готова стрелять. Но можно ли застрелить слизь? Называете ли вы жизнью медленно задохнуться в слизи? Но вы разговариваете. Вы участвуете во лжи, так как вы игнорируете ее. - Хелена! - сказал Иве. - Замолчи! - продолжила она, она говорила тихо и в крайнем напряжении: - Вы думаете, я несправедлива, но я хочу быть несправедливой, так как быть справедливой - это ложь. И я не хочу лжи, я по горло сыта этой ложью. Вы думаете, я разочарована, но я хочу быть разочарованной, так как вся надежда - это ложь. Как, разве я сама не делала уже все возможное, разве я уже не делала то, что я сама никогда не считала возможным? Кто может сказать, что я труслива? Вы думаете, я позволила победить себя тому, что было необходимо? Разве я когда-то уклонялась? Лишают ли меня силы духа сапожники, пекари, портные, услуги которых я не могу оплачивать, на что вам наплевать? Может быть, я боюсь идти моими дорогами, на киностудию, в редакцию, к Якобзону? Дороги, о которых вы ничего не знаете, которые для вас являются позорными дорогами, горькими, отвратительными, но для меня, однако, тротуаром, вероятно? И вы не знаете этого? И вы не видите этого, не чувствуете этого? Вы терпите проституцию, так как она легальна, так как она такая, какой она и должна быть? Но это не должно быть так, ради Бога, это не должно быть так. Мне это надоело. И вы разговариваете. А я надеваю платье без рукавов, когда иду к Якобзону. И я закидываю ногу за ногу, когда жду в редакции. И я раздеваюсь перед каждым режиссером, если я хочу получить роль на три дня по двадцать пять марок. Не могу ли я встать нагишом перед всем миром, если это будет необходимо? Но это не необходимо, это низкое свинство. Может быть, я чопорна? Может быть, я прячусь от фактов? Но это не факты, это низкие, брызжущие слюной пошлости. Боюсь ли я, опасаюсь ли я страсти? Если я люблю, тогда я бросаюсь в любовь с головой. Но я не позволяю затаскивать себя в каждую кровать ради дела. Я не позволяю лапать себя ни одной толстой свинье, гладить себя ни одному надушенному комку ваты. Я сыта этим по горло, сыта, сыта. А вы разговариваете. О свободе воли и о долге, об ответственности и о господстве. И об испытании в мире. В мире, который давно уже разделен между собой самой скотской бандой, которая когда-либо существовала, которая приползла к господству из водосточных канав, и вы не можете унюхать ее происхождения? Вы не пробуете на вкус дерьмо из каждого фильма, который они снимают, из каждого шлягера, который они поют, из каждой строчки, которую они пишут, из каждого слова, которое они говорят? Вы оглушены или вы подкуплены. Потому что вы разговариваете. Вы принимаете это. У вас даже есть теории об этом. Вы ведь такие высокомерные. Никто не хочет вас слушать; и вы гордиться этим. Но они слушают других, вон тех там. Они сидят там, твердо окопавшись, своими широкими задницами на всех креслах, на которых для них важно сидеть. Они сидят перед каждым телефоном, перед каждым микрофоном, перед каждым письменным столом. И вы можете танцевать, как они вам играют. И вы танцуете. Вы танцуете с вашими речами вокруг по кругу, танцуете под их музыку, и вы благодарны, когда они хвалят вас за ваши красивые прыжки, и вы обижаетесь, когда они смеются над вашими прыжками. Приличные люди. Свиньи! Вы тоже! Вы разговариваете. Об обязательствах. И вы не видите ваше первое, ваше единственное обязательство. Вы разговариваете. И вы такие независимые, как это только возможно сегодня. Вас не держат на поводке, как мы, которые дрожим, когда им приходит в голову обрезать поводок. У вас есть своеобразное счастье в том, что вы можете разговаривать, но там, где это важно, вы молчите, да что я говорю, вы не кричите, вы не ревете. Вы трусливы из- за невежества. Вы лжете из-за высокомерия. Но вы трусливы и вы лжете. Трусость и ложь, - она подскочила к Иве, будто плюнула на него. - Молчите! Если вы не хотите сказать то, что необходимо сказать. Нет извинения. Для всех, вероятно, оно есть, но для вас нет. Если вы не встаете, чтобы свидетельствовать против чумы и мусора, кто другой должен вставать? Но вы слишком тонкие натуры, чтобы вообще даже просто пойти на тротуар. Я иду на тротуар. Я позволяю себя оплевывать и осквернять. И я в чертовски большом обществе. В обществе, которое уже привыкло к тому, что его можно оплевывать и осквернять. Оно считает, что это в порядке вещей. И если оно и не считает, что это в порядке вещей, но не может решиться выступить против этого, оно должно соучаствовать, должно тоже вместе с другими плевать и осквернять, должно вести себя как в борделе и не может удивляться тому, что с ним обращаются как в борделе. Но вы терпите это. Вы смотрите и говорите о других вещах. И если грязь поднимется до ваших носов, то вы тоже набираете полный рот этой грязи и снова ее выплевываете, и делаете вид, что вместе с этим все сделано. Какого наследства вы ждете и ждете, пока оно не будет разорвано до последнего клочка? Ожидание - это предательство. Вы предатели. Мелкие предатели. Заурядные предатели. Вы вполне подходите к тем, другим. Вы даже не такие толковые, как они. Вы только болтаете о власти, а у других она есть. Вы говорите о решениях, а другие их принимают. Вы мечтаете о действиях, а другие делают. В том числе, с искусством. Вы думаете, они ничего в этом не понимают, но они понимают в этом побольше вас. Они знают, что опасно. А вы не знаете, и вы тоже неопасны. Оставьте меня, - сказала Хелена, и прошлась туда-сюда. - Вы можете считать меня истеричкой. У меня есть право быть истеричкой. Но вы тупые. Вы уже обгрызены по всем углам, как будто крысами. И вы не знаете этого, и не видите этого, и не чувствуете этого. Вы говорите о борьбе и всегда только сталкиваетесь друг с другом. Вы говорите о позиции и, это же настолько безобразно говорить о том, что есть некоторые люди, которых больше всех этих позиций заботит, как бы достать что-то пожрать. Я тоже, и моя позиция меня совсем не беспокоит. Оставьте меня, я вполне спокойна. Ничего не случилось. Ничего, что не происходит день за днем. Я каждый день мою руки, и каждый день мою душу, позор, что это необходимо. Ничего не случилось. Теперь они снимают новый фильм, я играю проститутку на пятнадцати метрах. Я должна показывать левую грудь со стороны, голую. У меня самая прекрасная грудь из всех, которых рассматривали. Ничего не случилось. Статью нужно переделать. Они сказали, что я маленькая анальная эротоманка. Они сказали, что только потому, что я такая очаровательная маленькая женщина, они оставили меня как сотрудницу при общем сокращении штатов. Они говорили, что они хотят получить статью о весне в Ментоне, из-за сезона путешествий. Я буду писать статью. Я никогда не была в Ментоне и никогда там не буду. И они знают это. Ничего не случилось. Все в порядке. Лучше, чем я думала. Нет, я не огорчена. Мой голос звучит резко? Я должна была пропеть на пробах. Должна вернуться завтра. Мечта одной ночи, по роману: «Война в сумерках». Я так люблю танцевать под открытым небом. Вероятно, меня возьмут. Если нет, то у тысяч людей дела тоже обстоят таким образом. Мне нужны краски и холст. Сегодня вечером я иду на бал Порцы. Что тут такого, я пообещала это Якобзону. Вдруг он, все- таки, может быть, купит картину. Он говорил, что он очень восхищен. Он говорит, что он знает одного любителя эротических картин. Он точно знает, что я о нем думаю, и это его заметно развлекает. Ты пойдешь со мной, Иве. Что такого, неужели мне идти одной? Пошли. Вон там, старая куртка, иди как бродяга. Я пойду как амазонка, кнут, короткая юбка и высокие сапоги. Потому что я знаю, что Якобзон это любит.