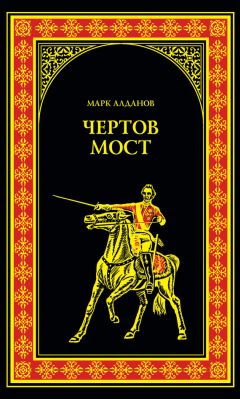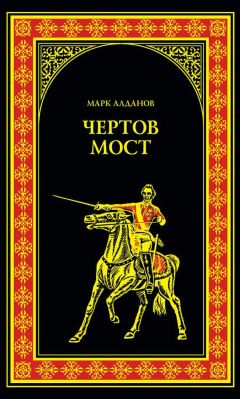Банкир равнодушно кивнул головой, поджимая губы и как бы показывая, что для него Баррас не лучше и не хуже другого.
Штааль вполголоса подозвал лакея, расплатился и вышел — в противоположную сторону от столика мосье Дюкро.
После проливного дождя, который выпал в ночь на 10-е число и который, собственно, решил борьбу в пользу противников Робеспьера, воздух стал свежее. Выйдя из Palais Egalité, Штааль решил оставить опротивевший ему город и пошел бродить по бульварам, по той менее людной их части, что примыкала к церкви Madeleine, строившейся до Революции, а теперь заброшенной. Этот квартал был окраиной города и напоминал дачное место. Штааль гулял очень долго. Обошел кругом пустынный храм, осмотрел фасад с двенадцатью колоннами и две боковые стены без сводов и крыши. Церковь ему не понравилась; ему все не нравилось в этот день. «Что за замысел строить католический собор в древнегреческом штиле! — подумал он. — Да и нелепо строить новый храм в век Вольтера и Гольбаха: церковь хороша, когда ей пятьсот лет». Не понравилось ему также название храма, и он с усмешкой вспомнил страницы, посвященные Марии-Магдалине, бароном Гольбахом в «Histoire critique de Jésus Christ»[223], которую он недавно прочел: в двадцать лет нравятся такие книги.
Со ступеней заброшенной церкви через Национальную улицу открывался вид на площадь Революции. Штааль невольно заглянул в ту сторону, но, хотя шел шестой час, ничего не увидел, кроме черного пятна толпы. Его тянуло на место казни. Молодой человек преодолел это желание и снова отправился бродить. Как он ни старался думать о другом, мысль его беспрестанно возвращалась к Робеспьеру.
«Где он может быть в настоящую минуту? — думал Штааль, то и дело вытягивая часы из кармана. — Еще в Conciergerie? Или уже на фургоне? Какой дорогой поедет фургон? Верно, через Quai de la Mégisserie и rue Honoré… Мимо его дома, — вдруг почти вскрикнул Штааль, опустив веки и дергаясь нижней частью лица. — Он живет (то есть жил) на rue Honoré… Увидит свой дом… И солнце, как назло, светит ярко. Впрочем, едва ли он теперь при сознании: говорят, он тяжело ранен. Ему утром делал перевязку лекарь… Утром делали перевязку, чтобы вечером казнить!»
Штааль опять дернулся лицом и вскрикнул, так, что на него оглянулся торопившийся куда-то прохожий. Молодой человек прикрыл шею рукой и сделал вид, будто откашливался.
«Да, он ранен в нижнюю челюсть, это, должно быть, боль нестерпимая… И нож как раз, пожалуй, ударит по ране… А-а… Говорят, он сам выстрелил в себя. Им, впрочем, выгодно это говорить… Или в самом деле он раскаялся в своих преступлениях? Нет, не может быть. Такие люди, как он, не раскаиваются. И он знал, натурально, на что идет: „Ceci est mon testament de mort“[224] — сказал он позавчера. И как сказал!.. Нет, в этом человеке было что-то необыкновенное, месмерическое… Который час?..»
Он быстро посмотрел на часы и прислушался, повернув ухо в ту сторону, где находилась площадь Революции. Ему показалось, будто он слышит рев и барабанный бой. Он постоял с минуту. Неожиданно стал накрапывать дождь. «Увидит ли он еще этот последний дождь, это посеревшее небо с бегущими тучами?» — спросил себя Штааль, остановившись под навесом. И, махнув с досадой рукой, молодой человек запретил себе думать о казни: этак еще свихнешься.
Штааль задумался над своими делами. Сначала он насильно заставил себя это сделать, но потом вошел в интерес. Дела его, очевидно, принимали хороший оборот: было ясно, что теперь пойдут всякие послабления, легальные и нелегальные; покинуть Францию будет нетрудно, и, при некоторой удаче, через месяц он уже может быть в Петербурге. Весьма вероятно, что его пребывание в Париже, если его представить в надлежащем свете, сослужит ему большую службу. «Какую, правда, награду я могу получить? — подумал Штааль. — Орден? Верно, дадут голштинский святые Анны, а то, пожалуй, и этот новый — Владимира для награждения заслуг гражданских… Нет, Владимира не дадут… Или имение? Недурно бы, если б этак тысячи полторы душ…»
Ему стало стыдно, что он от тех мыслей вдруг так быстро и незаметно перешел к этим. «Ну да, пустой мальчишка, ни рыба ни мясо», — подумал он с досадой и решил пойти домой с тем, чтобы снова засесть за дневник и уж окончательно выработать себе мировоззрение.
Штааль посмотрел вокруг себя. Солнце совершенно заволоклось тучами, и дождь все усиливался. Молодой человек находился в довольно пустынном квартале, расположенном между церковью Мадлен и садами Монсо. Не зная, как кратчайшей дорогой пройти на левый берег, он направился для расспросов к маленькой кофейне, терраса которой виднелась вблизи. На террасе у деревянного стола с отодвинутыми соломенными стульями стояло человек шесть рабочих в блузах. В ту минуту, когда подошел Штааль, один из них, запыхавшись, что-то взволнованно рассказывал.
— Да говорят же вам, казнен, я сам видел, собственными глазами, сейчас оттуда бегу. Все они казнены, двадцать два человека… Толпа как ревела, прямо что звери! На улице Honoré вокруг фургонов люди танцевали от радости. А дом, где он жил, вымазали бычьей кровью! На площади прямо бал был… Теперь, говорят, все пойдет по-новому…
— Да Робеспьер ли, Робеспьер ли казнен? — недоверчиво спросил старый рабочий, слушавший с открытым ртом, — Теперь много казнят всякого народу.
— Говорят же тебе, я сам видел, я близко стоял. Кто же не знает в лицо Робеспьера? Его на носилках несли. Лежит так хоть бы что… Голова забинтована, а сам хоть бы что. Вот только как Сансон сорвал с него повязку, он вскрикнул от боли. А так спокойный, совсем как бы ничего, — поспешно, тяжело дыша, выкладывал очевидец.
— Да, может, быть, это не Робеспьер, а кто-нибудь другой?
Запыхавшийся блузник засмеялся, пожимая плечами:
— Чудак!..
— Робеспьер казнен!.. Значит, он действительно виновен, — задумчиво сказал старый рабочий.
— Значит. А если ты не веришь, то беги к общей яме. Отсюда два шага, еще поспеешь на похороны, — сказал насмешливо рассказчик и, обращаясь к другим, продолжал:
— Один калека там был, долго с ним Сансон возился, все его укладывал, не мог положить как следует… Я говорю Жюли: «Знаешь, Жюли, я бы…»
Старый рабочий, не дослушав, надел картуз, положил на стол несколько монет, вынул из-под своего стакана войлочный кружок и поспешно пошел по улице, провожаемый смехом товарищей. Штааль последовал за ним, сам не зная для чего. Через минут десять, свернув несколько раз, они очутились в совершенно безлюдной местности, густо поросшей травой. Рабочий, угадывая желание молодого человека, кивком головы пригласил его следовать за собой. Они пошли по пустырям, перескакивая через ямы и перешагнув через какую-то невысокую ограду. Вдруг Штааль почувствовал сильный запах падали, который становился все крепче по мере того, как они шли вперед. Где-то вдали завыла собака. Они не встретили ни одного человека. Место было зловещее. У Штааля сердце стучало все сильнее.
Рабочий, по-видимому, знал местность. Он уверенно куда-то свернул (запах падали еще усилился) и подошел к сторожке, дверь которой была открыта настежь. Черная, промокшая собака, сидевшая на цепи, залаяла и стала рваться на вошедших. Мимо сторожки к какому-то повороту, отделенному высокой, в человеческий рост, кучей земли и мусора, шел тяжелый след протоптанной колесами мокрой травы. Рабочий с бледным и нахмуренным лицом оглянулся на Штааля, нерешительно приблизился к повороту и, зажав нос, посмотрел вперед, затем поспешно вернулся.
— La fosse commune[225], — сказал он шепотом, с ужасом в голосе, показывая рукой в сторону поворота. — Еще никого нет, сторож, видно, встречает.
Штааль шатаясь вошел в сторожку и опустился на стул. Он только теперь понял, что означал запах падали. Собака завыла еще сильнее, потом понемногу стала успокаиваться. В убогой сторожке не было никого. У окошка находился стол, еще было два стула и постель. Штааль слушал умолкавший лай собаки и почувствовал некоторое облегчение. Он встал и прошелся по сторожке. На некрашеной стене выделялся черной рамкой документ под засиженным мухами стеклом. По стеклу неторопливо, без жужжания, передвигалась муха, какая-то странная: большая, блестящая, как металл, темно-синяя с красно-желтой головой. Штааль машинально стал читать документ. Это был протокол о смерти Людовика XVI, — очевидно, копия, которую, как достопримечательность, раздобыл и показывал редким посетителям сторож кладбища казненных. Протокол был составлен по законному формуляру, — революция законных формуляров не изменила. Штааль прочел:
Acte de décès de Louis Capet, du vingt-un janvier dernier, dix heures vingt deux minutes du matin, profession, dernier roi des Français, âgé de trente neuf ans, natif de Versailles, paroisse Notre Dame, domicilié à Paris, Tour du Temple, marié ê Marie-Antoinette d’Autriche; ledit Louis Capet, exécuté sur la place de la Révolution, en vertu...[226]